несториана/nestoriana
Древнерусские и другие новости от Андрея Чернова. Сайт создан 2 сентября 2012 г.
Андрей Чернов. ЗАПРЕЩЕННЫЙ КЛАССИК (страницы книжки о Федоре Крюкове)
Усть-Медведицкая станица. Английское фото начала лета 1919 года. Сидят: Федор Крюков (внизу снимка, слева, с сумкой) и войсковой старшина Павел Дудаков, организатор первого партизанского отряда в Хоперском округе весной 1918 г. Стоят: войсковой старшина и организатор первого на Дону антибольшевистского восстания (началось также в Хоперском округе) Александр Голубинцев, друг и соратник Крюкова (он стоит с большой булавой окружного Усть-Медведицкого атамана); за ним будущий тесть Шолохова атаман Букановской станицы Хоперского округа Петр Громославский, в руках которого насека (булава в виде посоха), отличная от тех, что в руках у хуторских усть-медведицких атаманов; организатор партизанских отрядов генерал-майор Эммануил Семилетов; британский майор Хадлстон Вильямсон; командующий Донской армии генерал-лейтенант Владимир Сидорин; командир 1-го Донского отдельного корпуса генерал-майор Николай Алексеев и хуторские атаманы Усть-Медведицкого округа. Во втором ряду между майором Вильямсоном и генералом Владимиром Сидориным генерал-майор Захар Алферов.
1919. Фото из собрания Английского Имперского военного музея
https://www.iwm.org.uk/collections/item/object/205320727
АНГЛИЧАНКА В СВОЕМ РЕПЕРТУАРЕ
Эта затаившаяся в британском архиве и вынырнувшая в сети в 2016-м архивная фотография – прямая иллюстрация к 7 части «Тихого Дона». На ней запечатлен эпизод инспекционной поездки по Дону британской миссии на Северном Кавказе. На этом фото не только главнокомандующий Донской армией Сидорин («генералик»), вручавший Дарье Мелеховой медаль за погибшего мужа, но и спесивый, в пробковом шлеме, майор Вильямсон (в романе он назван полковником). И это лишь одно фото, из многих, как будто специально снятых для того, чтобы проиллюстрировать 7 часть «Тихого Дона»:
«Стоявший рядом с Сидориным высокий поджарый английский полковник из-под низко надвинутого на глаза шлема с холодным любопытством рассматривал казаков. По приказу генерала Бриггса – начальника британской военной миссии на Кавказе – он сопровождал Сидорина в его инспекционной поездке по очищенной от большевиков земле Войска Донского и при посредстве переводчика добросовестно изучал настроения казаков, а также знакомился с обстановкой на фронтах».
Пятнадцать раз в седьмой части романе встречается фамилия генерала Сидорина, приезжающего в 1919 году вместе с английским полковником на хутор Татарский награждать отличившихся в Вешенском восстании казаков.
Глазами англичанина автор описал и старого казака, «опирающегося на посох». Этот «посох» – атаманская насека. Такие мы видим и на других снимках из альбома Имперского военного музея в Лондоне:
http://www.iwm.org.uk/collections/listing/object-205009130
Здесь и подносимая казаками британцу хлеб-соль, и собранные на митинг казаки и казачки.
https://www.iwm.org.uk/collections/item/object/205320728
Одна из фотографий в музейной аннотации описана так: «Майор Хадлстон Вильямсон (Hudleston Williamson), офицер британской военной миссии в Южной России, с офицерами Белой русской армии. Дон, лето 1919 г. Фотография сделана во время поездки в подразделения Донской армии с командующим армией генералом Сидориным».
Помимо самого Крюкова (и жмущегося к нему Петра Громославского) как минимум пятеро из попавших на усть-медведицкую фотографию военных описаны или упомянуты в «Тихом Доне»: Павел Дудаков, Эммануил Семилетов, Хадлстон Вильямсон, Захар Алферов и Владимир Сидорин.
Эта фотография убивает миф о красном казаке Петре Громославском, сочиненном советскими шолоховедами. Делаю выписку: «…во время гражданской войны он не был в Новочеркасске рядом с Крюковым, жил в станице Букановской, сочувствовал большевикам, и, стало быть, был врагом Крюкова. Во время Вешенского мятежа вместе с сыном вступил в красную Слащево-Кумылженскую дружину. Летом 1919 г. был захвачен в плен белыми, судим ими и приговорен к 8 годам каторги. Отбывал наказание в Новочеркасской тюрьме вплоть до освобождения красными в 1920 году и не мог сопровождать Крюкова в его последнем путешествии…» (С. И. Сухих. Споры об авторстве «Тихого Дона». Из лекций по спецкурсу «Проблемы творчества М. Шолохова». Нижний Новгород. С. 26.)
Все оказалось ложью.
О тех, кто был близок Крюкову, и чьи рассказы писатель мог использовать в романе:
1. ПОДПОЛКОВНИК АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ ГОЛУБИНЦЕВ.

Александр Васильевич Голубинцев (1882–1963) – офицер Русской Императорской армии и военачальник Донской армии Всевеликого Войска Донского и Вооружённых Сил Юга России (ВСЮР), полковник, с 30 ноября 1919 генерал-майор. Командир отряда в станице Усть-Хопёрская и руководитель восстания против большевиков в Хопёрском и Верхне-Донском округах и командующий всеми их отрядами в марте – июле 1918. С июля 1918 командир 4-го конного отряда. С августа командующий войсками Усть-Хопёрского округа, затем в войсках корпуса генерала Мамонтова. Командир 5-й Донской казачьей дивизии и партизанской Усть-Хопёрской дивизий; март – июль 1919. Командир Отдельной 14-й Донской конной бригады (август – ноябрь 1919).
«Тихий Дон» – метафора из старинной казачьей песни (см. оба эпиграф к роману, где в одиннадцати песенных строках она звучит восемь раз) многократно использовалась Ф. Д. Крюковым даже еще и до раннего его очерка «На Тихом Дону» (1898). Звучит она и в последних строках последней опубликованной заметки Крюкова: «…не отдавать батюшки Тихого Дона, единым сердцем и единою мыслью биться за него до конца и – победить или умереть у родного порога…» («Единое на потребу» 21 декабря 1919 / 3 января 1920). Именно эта идиома стала паролем и лозунгом Усть-Хоперского антибольшевистского восстания, подготовленного и поднятого войсковым старшиной А. В. Голубинцевым. В своих мемуарах («Русская Вандея: Очерки Гражданской войны на Дону 1917–1920 гг». Мюнхен, 1959) он приводит текст, послуживший сигналом к усть-хоперскому выступлению 25 апреля 1918.
«Воззвание к вольным хуторам и станицам Тихого Дона» заканчивается так:
«…Ударил час. Загудел позывный колокол, и Тихий Дон, защищая свою волю и благосостояние, поднялся как один человек против обманщиков, угнетателей, грабителей мирного населения. За Тихий Дон! За казачью волю!
Начальник гарнизона станицы Усть-Хоперской войсковой старшина Голубинцев. Начальник штаба подпоручик Иванов».
Спустя три десятилетия эпиграфом к своей книге Голубинцев поставит строки своего соратника и друга: «…То Край Родной восстал за честь отчизны, за славу дедов и отцов, за свой порог и уголь… Ф. Крюков». И вынесет их на титул книги.
Александр Васильевич Голубинцев – последний командир 3-го Донского казачьего имени Ермака Тимофеева полка.
«Участвовал в боях в Восточной Пруссии, Галиции, Карпатах, Полесье и Добрудже».
Это строка не из «Тихого Дона», а из послужного списка Голубинцева.
Ср. в Первой части романа: «Суждено было Григорию Мелехову развязывать этот узелок два года спустя в Восточной Пруссии, под городом Столыпином». И в Третьей части о казаках: «Трупами истлевали на полях Галиции и Восточной Пруссии, в Карпатах и Румынии – всюду, где полыхали зарева войны и ложился копытный след казачьих коней». Тут же: «И многие голоса хлопочут над песней. Оттого и густа она и хмельна, как полесская брага». И первая фраза Четвертой части: «Тысяча девятьсот шестнадцатый год. Октябрь. Ночь. Дождь и ветер. Полесье». Тот же ряд, тот же боевой путь 3-го имени Ермака Тимофеевича полка и в начале Пятой части, рассказывающей о возвращении казаков «глубокой осенью» 1917: «Многих недосчитывались казаков, – растеряли их на полях Галиции, Буковины, Восточной Пруссии, Прикарпатья, Румынии, трупами легли они и истлели под орудийную панихиду…»
А вот и авторское «объяснение» того, как в 3 полку оказались вешенцы: «В 1914 году часть призванных на действительную военную службу казаков Вешенской станицы влили почему-то в 3-й Донской казачий имени Ермака Тимофеевича полк, состоявший сплошь из казаков Усть-Медведицкого округа. В числе остальных попал в 3-й полк и Митька Коршунов».
В начале 1918 г. полковник Голубинцев привел с фронта из Бессарабии 3-й Донской казачий полк «в родную Глазуновскую» (выражение Голубинцева). Крюков в то время также жил в родной ему Глазуновске.
Здесь Голубинцев по приказу Каледина распустил полк по домам (с оружием), а сам в середине феврале 1918 г. переехал в Усть-Хоперскую станицу, чтобы готовить восстание против большевиков (подробности этого см. в его книге). Судя по многим вербальным совпадениям мемуаров Голубинцева с прозой Крюкова и его стихотворением в прозе «Родиный край», строку из которого Голубинцев взял эпиграфом в своей «Русской Вандее», можно предположить, что Крюков был посвящен в заговор и, вероятно, является если не автором, то вдохновителем Усть-Хоперского воззвания.
Был он и непосредственным участником восстания.
Голубинцев свидетельствует:
«В первой половине июня (1918) решено было атаковать Михайловку. С вечера было занято исходное положение, и перед рассветом 1-й и 2-й пешие батальоны и партизанский отряд подъесаула Алексеева перешли в наступление со стороны хутора Ильменьки. Коннице под командой есаула Лащенова приказано было, выйдя скрытно по балке во фланг позиции противника, сообразуясь с наступлением пеших батальонов, в конном строю атаковать Михайловку. Но есаул Лащенов или опоздал, или, потеряв направление, сбился, и участия в атаке конница не приняла. Пешие батальоны из молодых казаков, не выдержав огня красных, залегли, и поднять их к дальнейшему наступлению не удалось. Партизанский отряд в темноте взял неправильное направление и опоздал к общей атаке. Таким образом, наступление не дало никаких результатов. Через несколько дней наступление опять было повторено, но без результата. В последнем наступлении принимал участие добровольцем находящийся в это время у себя в станице донской писатель и секретарь Войскового Круга Ф. Д. Крюков, написавший, вдохновленный восстанием усть-медведицких казаков, известное стихотворение в прозе “Родимый край”. В этом бою Федор Дмитриевич был легко контужен артиллерийским снарядом».
В том же очерке «В гостях у товарища Миронова» Крюков рассказывает о том, как готовилось Усть-Хоперское восстание (чем, собственно, и подтверждает свое участие в заговоре Голубинцева):
«…И – помню – когда великим постом стали заезжать ко мне и пешком приходить молоденькие офицеры из учителей и агрономов – «за книжками» – и осторожно нащупывать «настроение» – я с изумлением и сомнением спрашивал:
– Вы еще верите?
– Верим. А как же иначе? Иначе и жить не стоит…
– Но где же упор?
Упора не было пока, но благородно-мятежная юность верила, что он будет. И это всецело ее заслуга – сохранение угасавшего уголька веры в то, что клич возмущенной чести не только прозвучит среди безбрежного разлива шкурности, предательства, распыленности, но и не замрет без отзвука. Заслуга молодых орлят. Ибо старость, умудренная горечью и полуослепшая от тяжкого ига этой мудрости, негодовала, но сомневалась и жалась к стороне.
Но когда прозвучал зов восстания, – подхвачен он был окрепшими и вдруг помолодевшими стариковскими голосами…».
Усть-Хоперское восстание началось с призыва «За Тихий Дон», и можно утверждать, что в контексте событий 1918–1920 годов взятое в качестве заголовка романа выражение «Тихий Дон» – открытый вызов большевизму. При этом для автора романа словосочетание «Тихий Дон» столь сакрально, что ни разу не звучит в собственно авторской речи. (Всего же, если считать с названием, оно употреблено 27 раз.) В 8 части, написанной кем-то из литературных негров Шолохова, Дон упоминается 55 раз. Но «тихим» он не назван ни разу.
Из рассказов Голубинцева Крюков и должен был черпать сведения о начале войны. И брать нетривиальные подробности о подвиге приказного (то есть ефрейтора) Козьмы Крючкова, который в 1914 году стал первым Георгиевским кавалером той мировой бойни за то, что «начальствуя разъездом из 4-х казаков атаковал и опрокинул немецкий разъезд из 22 всадников, получив при этом 16 ран пикой» (пр. 1-й армии № 17 от 2.08.1914 г.).
Со слов Голубинцева описывает Крюков и подвиг Козьмы Крючкова. Описывает с подробностями (IX глава Третьей части), которые остались неизвестными журналистам того времени.
И это объясняет, почему рассказ о подвиге Крючкова в «Тихом Доне» столь разнится с рассказом, поведанным Шолохову одним из участником того боя Михаилом Иванковым (см. об этом в книге Ф. Кузнецова. С. 305) и объясняет, почему Шолохов ничего не записывал за Иванковым:
«Иванков рассказывал Сивоволову: – О том, как на германской я и Крючков воевали, меня расспрашивал Шолохов. Однажды он позвал меня к себе домой. Сидим в комнате за столом: он по одну сторону, я – по другую. Смотрит мне в глаза, спрашивает подробно, как и что было, а сам карандашом о стол постукивает. Я ему все чисто рассказал – и как дразнили Крючкова, и как рубились. Шолохов слушал меня внимательно, но на листе так ничего и не записал. Я посчитал, что это ему вовсе не нужно, мало ли таких случаев на войне было. А потом, видите, все-таки написал».
Однако Кузнецов умолчал о ключевой подробности: Иванков рассказал Шолохову, что немецкого офицера убил именно он (а не Астахов, еще один участник той схватки).
То есть главному (и единственному свидетелю!) Шолохов не поверил. А если и поверил, то не мог ничего изменить, роман-то был уже написан, и написан другим. И там черным по белом: Астахов прорвал кольцо и выскочил, истекая кровью. За ним погнался немецкий офицер. Почти в упор убил его Астахов выстрелом, сорвав с плеча винтовку. Это и послужило переломным моментом в схватке.
Со слов земляка, которого он должен был знать с детства и с котором, надо думать, встречался в начале 1916 года на фронте, Федор Крюков подробно описывает в «Тихом Доне» перемещения 3-го Донского казачьего полка (начиная с июня 1914, когда полк стоял в Вильно, и заканчивая роковым 1917-м). А далеко не литературную идею «Русской Вандеи» они вываривали вместе с полковником в их родной Глазуновке в феврале 1918.
Ну а Гришка Мелехов служит в 12-м Донском казачьем полку. Этот полк пришел с фронта и был распущен по домам в январе 1918 года. Весной того же года был сформирован новый 12-й полк, силами которого осенью 1918 году в Усть-Медведицкой станице был отпразднован юбилей 25-летней деятельности Федора Крюкова.
Книга того самого британского офицера: Хадлстон Ноэль Хедворт Уильямсон «Прощание с Доном»: Гражданская война в дневниках британского офицера. 1919—1920 / Пер. с англ. А.С. Цыпленкова. — М.: ЗАО Центрполиграф, 2007
http://uni-persona.srcc.msu.ru/f-krukov/belye_dobrovoltsy/uilyamson/kniga.htm
или тут:
Хадлстон Уильямсон «Прощание с Доном» (и к ней – предисловие и эпилог неизвестного автора):
http://uni-persona.srcc.msu.ru/f-krukov/index.htm
В апреле 1918-го Голубинцев был выбран окружным атаманом, хотя формально и оставался в тени. Он пишет:
«В этом смысле и даны были мною обещания, в моей речи, Чрезвычайному съезду. Желанием сдержать свое слово объясняется и мой отказ занять должность Окружного Атамана, вопреки состоявшемуся уже назначению, этим же объясняется и созыв Окружного Съезда, несмотря на отсутствие необходимости в нем и даже на то, что мне из Новочеркасска дали понять, что съезд, вообще, лишний, но мне его разрешается собрать, если я считаю это по каким-либо соображениям желательным; хотя я и разделял это мнение, но старый офицерский принцип, держаться даннаго слова, заставлял меня настаивать на созыве съезда».
И дальше:
«Впоследствии мои друзья и единомышленники выражали мне свое удивление и недоумение, как я, царский офицер, убежденный монархист и консерватор, терплю при себе «совет», хотя бы и «почти белый»; не утвердил выбранного Усть-Медведицей окружного атамана, устранял иногда блестящих и прямых офицеров-начальников только потому, что они не могли справиться и ладить с распущенными казаками. Да, все это было так, и делал я это с болью в сердце, но этого властно требовала обстановка…»
Итак, это был лишь тактический маневр. Но восстание началось, советы были упразднены и институт атаманства восстановлен.
Полковник Голубинцев, поднявший восстание на Хопре в 1918-м, нигде не афиширует свое атаманство, но как «Командующий Войсками» он над атаманами, и насека как символ власти в его руках вполне естественна. Причем не такая, как у хуторских атаманов, а более крупная, венчающаяся не одним, а двумя шарами.
- ПОЛКОВНИК АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ АГЕЕВ
Адъютант командующего армией Сидорина, до того адъютант Каледина, а после – Краснова, стоит, сзади, справа, подбоченясь.

THE ALLIED INTERVENTION IN SOUTH RUSSIA, 1919-1920 (Q 75942) Major Hudleston Williamson and other officers of the British Military Mission to South Russia, with senior officers of the White Russian Don Army at Upiupinskaya (unclear location, probably in Saratov Oblast, todays Russia), July 1919.
Back row, left to right — Major Cuthbert Hargreaves; Captain Lambkirk; Colonel Agayeft.
Front row, left to row — General Sidorin, the Commander of the Army; Genera… Copyright: © IWM. Original Source: http://www.iwm.org.uk/collections/item/object/205320729
Английская аннотация в переводе гласит: «Майор Хадлстон Вильямсон и другие офицеры британской военной миссии в Южной России со старшими офицерами Белой Донской армии в Упюпинской (неясное место, вероятно, в Саратовской области, сегодняшняя Россия), июль 1919 года. Задний ряд слева направо – майор Кутберт Харгривс; капитан Ламбырк; полковник Агеев. Передний ряд: генерал Сидорин, командующий армией; Генерал Коновалов, командующий II Донским корпусом; майор Вильямсон. Фотография, сделанная во время экскурсии по подразделениям Донской армии с генералом Сидориным, командующим армией».
Более восьмидесяти раз во втором томе романа звучат слова «Каледин» и «калединцы». Самоубийство атамана, описано в таких подробностях, которые могли видеть и знать лишь двое или трое тех, кто был наиболее близок к генералу. Кроме Агеева в узкий этот круг посвященных входил еще один крюковский знакомец – растерзанный большевиками в том же восемнадцатом заместитель атамана и идеолог казачества Митрофан Петрович Богаевский. Публицист Крюков оплакал гибель обоих в «Донских ведомостях».
Агеев мелькает в 7 части «Тихого Дона»:
«Генерал милостиво принял хлеб-соль из рук Пантелея Прокофьевича, сказал «спасибо!» и передал блюдо адъютанту. Стоявший рядом с Сидориным высокий поджарый английский полковник из-под низко надвинутого на глаза шлема с холодным любопытством рассматривал казаков. По приказу генерала Бриггса — начальника британской военной миссии на Кавказе — он сопровождал Сидорина в его инспекционной поездке по очищенной от большевиков земле Войска Донского и при посредстве переводчика добросовестно изучал настроения казаков, а также знакомился с обстановкой на фронтах…»
И вот там же еще:
«Дарья не поехала в поле, как приказывал Пантелей Прокофьевич. Она оказалась тут же, в толпе хуторских баб, и была разнаряжена, словно на праздник.
Как только она услышала свою фамилию, растолкала баб и смело пошла вперед, на ходу поправляя белый, с кружевной каемкой платок, щуря глаза и слегка смущенно улыбаясь. Даже усталая после дороги и любовных приключений она была дьявольски хороша! Не тронутые загаром бледные щеки резче оттеняли жаркий блеск прищуренных, ищущих глаз, а в своевольном изгибе накрашенных бровей и в складке улыбающихся губ таилось что-то вызывающее и нечистое.
Ей загородил дорогу стоявший спиной к толпе офицер. Она легонько оттолкнула его, сказала:
— Пропустите женихову родню! — И подошла к Сидорину.
Он взял из рук адъютанта медаль на георгиевской ленточке, — неумело действуя пальцами, приколол ее к Дарьиной кофточке на левой стороне груди и с улыбкой посмотрел Дарье в глаза.
— Вы — вдова убитого в марте хорунжего Мелехова?
— Да.
— Сейчас вы получите деньги, пятьсот рублей. Выдаст их вам вот этот офицер. Войсковой атаман Африкан Петрович Богаевский и правительство Дона благодарят вас за выказанное вами высокое мужество и просят принять сочувствие… Они сочувствуют вам в вашем горе.
Дарья не все поняла из того, что ей говорил генерал. Она поблагодарила кивком головы, взяла из рук адъютанта деньги и тоже, молча улыбаясь, посмотрела прямо в глаза нестарому генералу. Они были почти одинакового роста, и Дарья без особого стеснения разглядывала сухощавое генеральское лицо. «Дешево расценили моего Петра, не дороже пары быков… А генералик ничего из себя, подходящий», — со свойственным ей цинизмом думала она в этот момент. Сидорин ждал, что она вот-вот отойдет, но Дарья что-то медлила. Адъютант и офицеры, стоявшие позади Сидорина, движениями бровей указывали друг другу на разбитную вдову; в глазах их забегали веселые огоньки; даже полковник-англичанин оживился, поправил пояс, переступил с ноги на ногу, и на бесстрастном лице его появилось нечто отдаленно похожее на улыбку.
— Мне можно идти? — спросила Дарья.
— Да-да, разумеется! — торопливо разрешил Сидорин.
Дарья неловким движением сунула в разрез кофточки деньги, — направилась к толпе. За ее легкой, скользящей походкой внимательно следили все уставшие от речей и церемоний офицеры».
А то, как в натуре выглядело описанное в 7 части романа преподнесение хлеба и соли Сидорину и Вильямсону, см. на фотографиях из той же британской коллекции:
Георгий Малахов. ЕЩЕ О ДОНСКИХ ФОТОГРАФИЯХ МАЙОРА УИЛЬЯМСОНА. 1919
Кстати, генерал Коновалов (в центре на снимке из станицы Урюпинской) и «2-й коноваловский корпус» тоже несколько раз упоминается в 7 части романа.
10 ноября 1918 в станице Усть-Медведицкой прошел торжественный концерт, где чествовали Ф. Д. Крюкова, поздравляли его с 25-летием литературной деятельности. На сцене выступили члены женского общества, драматического кружка, педагоги, кооператоры, учащиеся.
Репортер «Донской волны» приписал крюковское стихотворение в прозе помощнику полкового командира 12 полка. Репортер захлебывается от чувств, но избегает называть имена. Как-никак война: «Чеканит отрывисто, по-военному, командир 12 полка. Проста, но от сердца казачьего речь идет. Заметил любовь Крюкова к мелочам Донского быта и отметил это. Большим, привычным артистом проявил себя помощник командира, чудесно продекламировал привет – стихотворение в прозе, автор коему – сам. Вообще 12-й полк много придал торжественности юбилею. Марш на фанфарах, пение хора, поразительная пляска казаков – всё это вносило большое оживление в публику и сердечно радовало юбиляра…» (М. Коновалов. Юбилей Ф. Д. Крюкова в станице Усть-Медведицкой. «Донская волна». № 26. 9 декабря 1918. С. 13).
4. ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ ГРОМОСЛАВСКИЙ (1870–1939), атаман Букановской станицы, будущий тесть Шолохова и однокашник Крюкова по Усть-Медведицкой гимназии.

Британское фото разрушает миф, сочиненный в 70-х шолоховедом Константином Приймой, мол, Громославский не мог сопровождать Крюкова в отступлении к Новороссийску и не мог воспользоваться рукописью романа (якобы в это время бывший букановский атаман был схвачен белыми и сидел в тюрьме в Новочеркасске). Также см. ниже свидетельство Риммы Шахмагоновой, вдовы шолоховского секретаря Федора Федоровича Шахмагонова: вещи и рукописи Крюкова в 1920-х хранились на чердаке в доме Громославского. О том же свидетельствует и букановская жительница Н. И. Сергеева. (См. ее воспоминания «Трагедия донского казачества. Кто автор «Тихого Дона»?)
http://www.philol.msu.ru/~lex/td/?pid=0421
То, что Громославский никогда не арестовывался белыми, а «из отступа» сразу вернулся в станицу и жил в ней безвыездно, утверждали и другие букановцы.
ПЕВЕЦ ЗИПУННОГО РЫЦАРСТВА
14 февраля 2020 исполнится 150 лет со дня рождения Федора Крюкова. И в том же недальнем уже году – 100 лет с того неведомого нам дня, в который его убили.
«Федор Дмитриевич несомненно унес в могилу «Войну и мир» нашего времени, которую он уже задумывал, он, испытавший весь трагизм и все величие этой эпопеи на своих плечах…» (Сергей Серапин. Памяти Ф. Д. Крюкова. Газета «Сполох». Мелитополь. 5 сентября 1920).
В прошлом веке говорили: «Советская власть 70 лет не может простить Гумилеву того, что она его расстреляла».
Но Гумилева читали и до советской власти, и при, и после.
А этот сам виноват. Пусть его прозой зачитывались Горький, Короленко и Серафимович, пусть современники называли «Гомером казачества»… Публиковался он чаще всего под псевдонимами (Гордеев, Березинцев и др.) в народническом журнале «Русское Богатство». Там, у Короленко, и служил соредактором по отделу прозы. А темы все время брал какие-то уж слишком региональные… Ни славы, ни прибытку. И кому после 1905 года хотелось читать про быт донских казаков, если по всей России само слово «казак» ассоциировалось со свистом нагайки?
Ложь постсоветского мифа: Крюков – третьестепенный писатель.
Слышу такое:
– Крюков… Это который казачий офицер?
– А вы читали этого офицера?
– Нет, но я читал монографию Феликса Кузнецова о Шолохове…
Крюкова очень удобно объявить дилетантом. Ранняя его проза (по большей части очерковая) – зачастую неровная, с самоповторами и срывами. Такова цена мучительного поиска языковой пластики. Ну не писали русские классики о жалмерках, прикладках и охлюпках. А это не про просто диалектизмы, это другой, неизвестный прочей России быт, иные нравы и людские отношения, иная человеческая психология. А, значит, – другая Россия. Откройте его первый рассказ «Гулебщики» (автору 22 года)… Там каждое слово – волшебство. Откройте лучшие его вещи. Никогда донская речь не звучала столь завораживающе и столь пророчески.
Он раскладывал костры, а огонь должен был упасть с неба.
Он так и остался бы прекрасным провинциальным бытописателем и «первым певцом Тихого Дона», если б не тот огонь. Только не небесный, а земной, рукотворный, вонючий, опаливший полмира и пожравший дотла все, что этот писатель так любил – и Россию, и родную его Донщину.
Зипунный рыцарь; зипунное рыцарство; рыцарь в зипуне… Многократно мелькают эти выражение в прозе и публицистике Крюкова (См. «Ползком», «В углу», «В гостях у товарища Миронова», «Край родной», «М. П. Богаевский», «Старший брат и младший брат», «Войсковой круг», «Единое на потребу»).
Контаминация донского выражения зипуны добывать (ходить за военной добычей) и формулы В. Г. Белинского «азиатское рыцарство, известное под именем удалого казачества» (Белинский В. Г. «Отечественные записки», 1841. Т. XVI. Библиографическая хроника, с. 32–34). Белинский же идет от Гоголя, который устами Тараса Бульбы говорит сыновьям о защите «чести лыцарской» и веры Христовой. Впервые у Крюкова в «Булавинском бунте» (1890-е; при жизни не опубликовано): «… в сознании простых серых, зипунных рыцарей». Но встречается и пафосное: «Донские рыцари! Сыны родного Дона!» («За Тихий Дон вперед!»). Ср.: «казаки, рыцари земли Русской!» (ТД: 4, XVII, 166).
О казацком «рыцарстве» Федор Крюков будет говорить 13 июня в 1906 г. в Государственной Думе:
«Правительство, как говорил предшествующий оратор, сделало все для того, чтобы стереть память о тех отдаленных временах своеобразной рыцарской отваги, гордой независимости, но слабый отзвук утраченной свободы прозвучит иногда для казака в его старинной песне, и задрожит казацкое сердце от горькой тоски по дедовской воле. Там, в прошлом, для казака было много бесконечно дорогого, там была полная, свободная жизнь широкой удали, была та совокупность прав личности, которых добивается теперь русский народ. Этим ли не дорожить?».
Вариации на эту тему у Крюкова многократны:
«…о древнем казацком рыцарстве» («Шквал». 1909); «Я любил Россию – всю, в целом, великую, несуразную, богатую противоречиями, непостижимую. «Могучую и бессильную»… Я болел её болью, радовался её редкими радостями, гордился гордостью, горел её жгучим стыдом… Но самые заветные, самые цепкие и прочные нити моего сердца были прикреплены к этому вот серому уголку, к краю, где я родился и вырос. Я так был горд его прошлым, которое мне представлялось в романтическом освещении вольнолюбивым и героическим, немножко идеализируя cерое зипунное рыцарство старины» («Выборы на Дону». 1916); «…думалось, что казак нынешний есть подлинно казак – тот казак, с именем которого связывалось представление о рыцаре в зипуне» («В углу». 1918); «…над всем тем прологом к героическому сказанию жизни, от которого веет седой стариной зипунных рыцарей» («В гостях у товарища Миронова»); «в жемчужном мареве виденья зипунных рыцарей былых» («Край родной»). Кроме того, в рассказе «Ползком»: «В этом наименовании «лыцарьями», т.е. рыцарями, людей в зипунах и поршнях, спешивших посечься не по таксе, а по собственному приговору, была едкая ирония». В последний газетной заметке Крюкова «Единое на потребу» (21 декабря 1919): «Вперед на врага, переступившего наш родной порог. Мы вчера имели высокую радость слышать на совещании членов Круга этот мужественный зов простого зипунного рыцаря». Ср.: «Так же уверенно вел он политическую игру, как и вначале, и так же натыкался на простую, зипунную броню подтелковских ответов» (ТД: 5, X, 249); «Нелепый вид зипунного офицера развеселил Григория» (ТД: 7, XIX, 184).
Меткое словцо становится меткой времени: выражение «зипунные рыцари» использует и Петр Краснов (1922).
ДА КАКИЕ УЖ ТЕПЕРЬ ТАЙНЫ?
Осенью 2017-го я получил письмо от московского филолога Софьи Александровны Митрохиной:
«В конце 80-х я работала в издательстве «Московский рабочий» (зав. молодежной редакцией «Лицей на Чистых Прудах») и как-то зимой провела недели две в Доме творчества Союза Писателей в Малеевке. Случайно моим соседом по столу оказался писатель Фёдор Фёдорович Шахмагонов, который в течение десяти лет (1951–1960) был литературным секретарем Михаила Александровича Шолохова и жил в те годы Вешенской. Мы много разговаривали с ним о литературе, и я, конечно, задала ему вопрос, который тогда волновал всех: действительно ли Михаил Шолохов является автором «Тихого Дона»? Ответ был для меня неожиданным: «А вы сами себе ответьте на вопрос: любовь вспыхнувшая между Аксиньей и Григорием, – это взаимоотношения простых людей, или это – офицерский роман?». Я поняла, что речь шла о какой-то грандиозной переделке текста. Но – чьего текста? Кто переделывал текст? Однако уточнять свой вопрос Фёдор Фёдорович Шахмагонов не стал. А для меня его вопрос и был самоочевидным ответом».
…5 апреля 2016 года час проговорил по телефону с Риммой Николаевной Шахмагоновой, вдовой Федора Федоровича Шахмагонова. Шолохов когда-то и познакомил Федора Федоровича с Риммой Николаевной.
Вот ее слова, которые она разрешила предать гласности:
«Говорю вам по совести и по чести. Он (Федор Федорович – А. Ч.) говорил, что Крюков не только был знаком с тестем Михаила Александровича, но, когда казаки отступали, вещи и рукописи Крюкова хранились на чердаке у Марии Петровны (будущей жены М. А. Шолохова – А.Ч.)».
Спрашиваю, а это, мол, не тайна?
– Да какие уж тут теперь тайны?
УТАЕННЫЙ ИСТОК РОМАНА. АРХИВНАЯ НАХОДКА ФИЛОЛОГА МИХАИЛА МИХЕЕВА
Мой старинный московский товарищ Михаил Михеев описывал архив Федора Крюкова в Доме русского зарубежья. И прислал мне несколько текстов донских песен, собранных Крюковым еще в студенчестве. В отдельной тетрадке среди подборки казачьих песен есть и та, что дала название рассказу «На речке лазоревой» (Л. 19 об): «На речке лазоревой во чистом то поле было…»

Дом русского зарубежья. Фонд 14 (Ф. Д. Крюков. Произведения казачьего фольклора.). Опись 1. Е. х. 25. Л. 44 об. На обороте л. [15]-23 помета: «1889 года мая».
Только поразило меня не это.
В той же тетрадке оказалась записанная рукою Федора Крюкова песня, сюжет которой стал завязкой любовного сюжета ТД.
Итак, полевая фонетическая запись, выполненная Ф. Д. Крюковым ок. 1890 года крупным, еще полудетским почерком.
Приношу благодарность Михаилу Михееву. Текст публикую в собственной стихотворной записи.
– – –1
начало
————
Не вечернiя зорюшка истухать стала
Полуночная звѣздачка она высоко взошла
Хорошая шельма бабачка поваду пашла
Удалинький добрай молодѣцъ вёлъ коня поить
С хорошаю шельмой бабачкой разговаривалъ
Позволь позволь душа бабачка ночевать ктебѣ притить,
Приди приди мой харошой я адна дома буду
Одна дома мнѣ своя воля.
Посте[те]лю* тибѣ постелюшку постель бѣлою;
Положу въ головушку три подушочки // Конецъ:–
—————————————————————
*Описка или удвоение слога ради напева? – А. Ч.
Из этой песни и попала на первую страницу романа «истухающая заря»:
«Ребятишки, пасшие за прогоном телят, рассказывали, будто видели они, как Прокофий вечерами, когда вянут зори, на руках носил жену до Татарского, ажник, кургана. Сажал ее там на макушке кургана, спиной к источенному столетиями ноздреватому камню, садился с ней рядом, и так подолгу глядели они в степь. Глядели до тех пор, пока истухала заря, а потом Прокофий кутал жену в зипун и на руках относил домой».
Отсюда же и такая странность повествования: Гришка перед уходом брата дважды поит Степанова коня на Дону, хотя на базу есть колодец. (В первый раз ночью, а потом поутру. И только со второй попытки он встречает свою, идущую с ведрами, «шельму-бабочку».
В полемике жизни с песней пишется и концовка VIII главы:
«Удивленный Григорий догнал Митьку у ворот.
– Придешь ноне на игрище? – спросил тот.
– Нет.
– Что так? Либо ночевать покликала?..
Григорий потер ладонью лоб и не ответил».
Речь вовсе не про совпадение одного фольклорного клише. Именно в этой песне роман начинается с того, что казачка, оставшаяся одна в доме (муж, очевидно, служит) в ночи идет за водой и ее встречает молодой казак, который (ночью!) поехал поить коня. И она его приглашает ночевать, поскольку «одна дома» и ей «своя воля».
Разверткой сюжета этой песни и стали первые главы ТД.
Добавлю только, что слово «начало» над текстом, видимо, и подсказало начать роман с данного сюжета. При этом в записи оно означало всего лишь начало подборки (не текста песни, потому что словом «конец» заканчивается и первая, и вторая песни, расположенные ниже на этом же листе).
В литературном хозяйстве Федора Дмитриевича Крюкова ничего не пропадало.
P.S. Получил письмо от исследователя Алексея Неклюдова:
Андрей, кроме того, вариант той же песни поют казаки, когда едут на военные сборы:
Эх ты, зоренька-зарница,
Рано на небо взошла…
Томилин по-бабьи прикладывает к щеке ладонь, подхватывает тонким, стенящим подголоском. Улыбаясь, заправив в рот усину, смотрит Петро, как у грудастого батарейца синеют от усилия узелки жил на висках.
Молодая, вот она, бабенка
Поздно по воду пошла…
Степан лежит к Христоне головой, поворачивается, опираясь на руку; тугая красивая шея розовеет.
– Христоня, подмоги!
А мальчишка, он догадался,
Стал коня свово седлать…
Степан переводит на Петра улыбающийся взгляд выпученных глаз, и Петро, вытянув изо рта усину, присоединяет голос.
Христоня, разинув непомерную залохматевшую щетиной пасть, ревет, сотрясая брезентовую крышу будки:
Оседлал коня гнедого –
Стал бабенку догонять…
(5 глава 1-й части)
РОЖДЕНИЕ МЕТАФОРЫ
Вот лишь одна метафорическая конструкция «Тихого Дома»: пехота как поток смолы серых шинелей, или как серошинельная кровь России.
Проза Крюкова позволяет проследить рождение метафоры:
«Настоящее дыхание войны начинаешь чувствовать лишь с таких пунктов, где аромат серого солдатского океана и его однообразный сурово-непогожий цвет поглощает и вытесняет все другие живые запахи и цвета. Малые ручьи, устремляющиеся в это многоголосое море с меняющимися берегами, начинается задолго до границ, до театра боевых столкновений. Распыленными брызгами они видны по всем путям, прорезывающим безмолвную русскую равнину. На станциях и в городах они сливаются уже в потоки, а где-нибудь за Баку или Тифлисом – мои наблюдения относятся исключительно к южному фронту – катится уже широкая серая река и за Александрополем и за Карсом падает в безбрежное серое море, в котором черные туземцы тонут, как мухи в кадке с квасом…» (Крюков. «Около войны». 1914–1915).
«Густой серой смолой течет пехота. Потемневшие до пояса, непросохшие шинели в резких складках кажутся свинцово-тяжелыми. Люди как будто не успели умыться, шагают вяло, хмуро, молча, цепляются штыками. Кое-где в этой серой, медлительной лавине качается всадник на тощей лошади» (Крюков. «В сфере военной обыденности». 1916); «Я перебежал за угол дома, завернул на Спасскую и вмешался в этот серый, смутный поток солдатских шинелей. Он двигался навстречу мне и вблизи казался будничным, ленивым, лишенным воодушевления» (Крюков. «Обвал»).
Сравним: «По артериям страны, по железным путям к западной границе гонит взбаламученная Россия серошинельную кровь» (ТД: 3, VII, 289); «Григорий поднял голову. В проезжавших санях лежали внакат, прикрытые брезентом, серошинельные трупы» (ТД: 6, XXI, 166); «Тотчас же Штокман ринулся туда. Нещадно расталкивая, пиная тугие серошинельные спины…» (ТД: 6, XLIX, 322).
Чтобы написать фразу «Незримый покойник ютился в мелеховском курене, и живые пили его васильковый трупный запах» («Тихий Дон», 1 книга) надо было пройти через 14-й год.
В 1914 ему было 44. Откуда этот страшный васильковый запах, если покойник, кстати, мнимый, лежит за тысячу верст от мелеховского куреня?
А вот откуда:
«В чистенькой, чрезвычайно благообразной моленной было прохладно и тихо, пахло васильками и самодельными восковыми свечами, и лишь одна-единственная муха жужжала и сердито билась на радужном стекле окошка» (Крюков.«На речке лазоревой». 1911).
Еще всё вроде бы неплохо и даже благостно. Жить трудно, но можно. Вот только запах васильков (см. стихотворение Апухтина «Сумасшедший») уже пророчит неладное. И стекло радужное, разложившееся, и муха бьется не к добру.
Такое нельзя украсть. Вор просто не заметит, не увидит столь редкого, даром что неброского самоцвета. Это как отпечатки пальцев – они строго индивидуальны.
Но, поскольку речь о малоизвестном литераторе, обратимся к биографии.
Федор Дмитриевич Крюков родился 2 (14) февраля 1870 года в станице Глазуновской Усть-Медведицкого округа Области Войска Донского. Он сын казака-хлебороба. Мать – донская дворянка. Семья многодетная. В 1920 младшего брата Александра, ученого-лесовода, за родство с братом чекисты замучают в слободе Михайловке. Впрочем, по другой версии – растерзает на железнодорожной станции пьяная солдатня. За что? За интеллигентный вид.

Федор и Александр Крюковы. 1890-е
Сестры Евдокия и Мария погибнут от голода в начале 1930-х. По иной версии – тогда-то как раз выживут, но что стало с ними потом, тоже никто не знает.
С серебряной медалью он вышел из стен Усть-Медведицкой гимназии.
В 1892 окончил Петербургский историко-филологический институт (заведение с такими требованиями к студентам, что многие здесь просто не выдерживали нагрузки). И тринадцать лет преподавал в Орле и Нижнем Новгороде.
В 1906 – депутат от Войска Донского в Первой Государственной Думе. (Близок к трудовикам.) 13 июня он выступает с речью против использования казаков в карательных акциях правительства. Слова том, что казаки «под видом исполнения воинского долга, несут ярмо такой службы, которая покрыла позором все казачество», обвиняют:
«Правительство… сделало все для того, чтобы стереть память о тех отдаленных временах своеобразной рыцарской отваги, гордой независимости, но слабый отзвук утраченной свободы прозвучит иногда для казака в его старинной песне, и задрожит казацкое сердце от горькой тоски по дедовской воле».
Если вырвать из контекста, не сразу сообразишь, о каких это временах – аракчеевских да николаевских, или будущих, сталинских:
«Особая казарменная атмосфера с ее беспощадной муштровкой, убивающей живую душу, с ее жестокими наказаниями, с ее изолированностью, с ее обычным развращением, замаскированным подкупом, водкой и особыми песнями, залихватски-хвастливыми или циничными, – все это приспособлено к тому, чтобы постепенно, пожалуй, незаметно, людей простых, открытых, людей труда обратить в живые машины, часто бессмысленно жестокие, искусственно озверенные машины».
Иллюстрация к этому – похабная песня, звучащая в «Тихом Доне» при проводах казаков на войну:
«Сотня, нарочно сливая слова, под аккомпанемент свежекованных лошадиных копыт, несла к вокзалу, к красным вагонным куреням лишенько свое – песню:
Щуку я, щуку я, щуку я поймала.
Девица красная, уху я варила.
Уху я, уху я, уху я варила. (3, VII, 289).
Говорит писатель и о тяготах казацкой жизни, о разорении казачьих хозяйств, о политике власти, пытающейся превратить сынов вольного Дона в недолюдей. И приводит примеры, словно бы заимствованные из еще не написанного «Тихого Дона»:
«Я как сейчас вижу перед собой эти знакомые фигуры, вижу и молодого казака в чекмене, в шароварах с лампасами, в неуклюжих сапогах, голенища которых похожи на широкие лопухи, и старика, его отца, униженно упрашивающего «его высокоблагородие» принять представленную на смотр лошадку. А «его высокоблагородие», сытый, полупьяный, подчищенный офицер, не принимает лошади, находя ее или недостаточно подкормленной, илиобнаруживая в ней скрытые пороки, известные только ему одному».
(См. проводы Григория Мелехова на службу.)
Речь депутата Крюкова была более, чем скандалом. С тех пор некто Ульянов (который Ленин) очень внимательно следит за опасным народником, своим ровесником.
К восьмидесятилетнему юбилею Толстого в № 35 большевистской газеты «Пролетарий» (сентябрь 1908) появилась статья Ленина «Лев Толстой как зеркало русской революции»:
«Большая часть крестьянства плакала и молилась, резонерствовала и мечтала, писала прошения и посылала “ходателей”, – совсем в духе Льва Николаича Толстого! И, как всегда бывает в таких случаях, толстовское воздержание от политики, толстовское отречение от политики, отсутствие интереса к ней и понимания ее, делали то, что за сознательным и революционным пролетариатом шло меньшинство, большинство же было добычей тех беспринципных, холуйских, буржуазных интеллигентов, которые под названием кадетов бегали с собрания трудовиков в переднюю Столыпина, клянчили, торговались, примиряли, обещали примирить, – пока их не выгнали пинком солдатского сапога».
Но еще двумя годами ранее (ох уж этот 1906!) в статье «Обывательщина в революционной среде» Крюков выставлен политиком-пустышкой, чьи усилия по освобождению трудящихся смехотворны. А в 1913 в другой статье («Что делается в народничестве и что делается в деревне?») будущий вождь щедро цитирует крюковский очерк «Без огня». Для него старый священник, герой Крюкова, говорящий о крушении устоев в заветов – «сладенький попик», «сторонник «любви» и враг «ненависти»», выражает «толстовскую», «христианскую» и вообще «глубочайше-реакционную» точку зрения [1]. Но, по сути, Ленин рассматривает Крюкова как новое «зеркало русской революции», хотя от употребления этого ярлыка воздерживается, очевидно, не желая ставить донского автора в один ряд с классиком и тем добавлять очков «неавторитетному политику».
В том же 1913 Крюков и полемизирует с Лениным в романе о казаках, над которым работает с начала 1910-х. Он молчаливо соглашается с отведенной ему ролью нового «зеркала», но показывает, что движитель революции – сами властьимущие, их эгоизм, тупость и бездарность. А еще – ленинские сторонники, марксоидные радикалы вроде Штокмана, не знающие и не понимающие ни казачьего, ни крестьянского русского уклада, но ставящие целью разрушить всю народную жизнь вместе с плохим и хорошим, разрушить всё – до основанья.
Эту крюковскую полемику с Лениным не увидели, ведь роман не был закончен. Меж тем она уже 80 лет на виду, в «Тихом Доне».
«ТИХИЙ ДОН». СФРАГИДА КРЮКОВА
эту главу читать здесь:
Андрей Чернов. СФРАГИДА Ф. Д. КРЮКОВА В ПЕРВОМ ТОМЕ «ТИХОГО ДОНА»
ПОЧЕМУ ТЮРЕМНЫЙ ДНЕВНИК ФЕДОРА КРЮКОВА – КЛЮЧ НЕ ТОЛЬКО К ДНЕВНИКУ СТУДЕНТА ИЗ «ТИХОГО ДОНА», НО И СРАЗУ К ДВУМ ИМЕНАМ ЭТОГО СТУДЕНТА
 На факсимильном воспроизведении нумерация строк проставлена публикатором.
На факсимильном воспроизведении нумерация строк проставлена публикатором.
Однокурсник и друг Крюкова, филогог, историк и библиолог Владимир Феофилович Боцяновский (1869–1943), во время блокады открыл глаза Борису Викторовичу Томашевскому (1890–1957) на то, что автор «Тихого Дона» – Крюков! Он не один день излагал коллеге подробности этого трагического сюжета, доказывал, рассказывал о Крюкове. Они лежали рядом в одной больничной палате. Умирали, а потому времени у них было достаточно. Томашевский выжил. И эти рассказы (не рассказ!) поведал жене. Увы, разоблачившая Шолохова филолог Ирина Николаевна Медведева-Томашевская (1903–1973) в своем «Стремени «Тихого Дона» этих рассказов коснуться по понятным причинам не могла. Но, видимо, заметив вокруг себя какую-то нехорошую суету, недописанную книжку (чисто филологическую, а не мемуарную) передала приехавшему в Гурзуф А. И. Солженицыну. И вскоре трагически погибла в Гурзуфе. После смерти архив ее, как нередко бывает в таких случаях, в одночасье исчез. Книга со вступительной статьей Солженицына на следующий год вышла в Париже.
Просматривая архив Ф. Д. Крюкова натыкаюсь на странную запись, находящуюся среди черновиков фронтового очерка «Группа Б.». Сделана она на правой странице извлеченного из записной книжки двойного листка. Высота страницы 12,7 см (5 дюймов), ширина разворота 16,5 см (6,5 дюймов). На левой странице этого разворота – список продуктов и товаров на 7 рублей 7 копеек, приобретенных писателем 27 мая неизвестно какого года. Сама записная книжка, видимо, утрачена.
Адрес находки: «Библиотека-Фонд Русского зарубежья». Фонд Ф. Д. Крюкова. Черновики очерка «Группа Б.». Папка «Справки по различным вопросам из архива Ф. Д. Крюкова». Внутри школьной фиолетовой тетради с архивной пометой на обложке: «39 листов». № 2; вложение VI. Л. 2.
При первом взгляде на этот листок может показаться, что запечатленный на нем текст достоин маргиналии «нрзб.»: ширина строчных букв едва ли не микроскопическая – около 1 мм, добрая половина букв неотличимы друг от друга. И это при том, что беловые рукописи писателя выполнены продвинутым, но хорошо читаемым, а подчас практически каллиграфическим почерком.
Факсимильное воспроизведение (с проставленной публикатором нумерацией строк) читатель найдет в моей заметке «Неопубликованный Крюков. Страничка из тюремного дневника. Из нетривиальных параллелей к «Тихому Дону» в сборнике в сб. «Загадки и тайны „Тихого Дона“: Двенадцать лет поисков и находок». М., АИРО-XXI. 2010. С. 354.
С помощью Наталии Введенской эту запись удалось расшифровать. А в двух, особенно трудных случаях, мне помогли Виктор Правдюк и Людмила Ворокова.
1. 10 iюня.
2. Гуляли в пятом часу. В садикѣ были длинныя
3. тѣни, солнце не пекло, от Невы наносило дымомъ и
4. желанною свежестью. Уголовный с короткой бородкой,
5. с сѣрым лицом ворошил скошенную траву, – пахло ею,
6. подсыхающей. Одну маленькую копешку склал. А
7. гдѣ ворохнет, подымается* свѣтящiйся пух бузлуч-
8. ковъ**, или одуванчиков, как сквозистыя***, мелкiя мушки,
9. кружится, вьется, лезет в лицо. Маленькая бабочка
10. трепещет крылышками и вся сквозит; и всё пахнет сѣ-
11. ном и влажность (?) дождя, луг, пѣсок. Мечтает
12. солдат-часовой, опершись на дул, мечтают надзира-
13. тели, глядя невидящим взглядом перед собой, меч-
14. тают уголовные и политическiе. Опустив головы, за-
15. ложив руки назад или в карман, каждый ду-
16. мает о чем-то о своем… О чем? И странно, что
17. мы вот кружимъ так по этим отшлифованным
18. арестантскими ногами скользкимъ камням, а
19. не сойдемся в круг, не запоем общую пѣсню; и слу-
20. шали бы ее вечерняя свежесть и чуткость, и были
21. трогательны наши – пусть арестантскiя – пѣсни, и
22. многое сразу**** стяжало бы сердце, и чувствовалъ бы въ
23. легких восхожение к сердцу людей, и общность, и
24. надежда, и единенiе… Какая-то трогательность у
25. наш (?) тенетъ и арестантской поэзiи… Теперь пони-
26. маю «Славное озеро свѣтлый Байкал…» и готов за-
27. плакать об этой горней тоске о волѣ, о потерянном
28. мiре*****…
* далее следует назачеркнутое «сквозь» (начальный вариант).
** Бузлучок – одуванчик. В Донском словаре[5] только как «корень, клубень». Одуванчики имеют сильно развитые, утолщенные корневища. Очевидно, за мясистые корневища казаки и назвали одуванчики бузлучками. (Сообщено Л. У. Вороковой). См. также о цветущих одуванчиках: «развертывались золотые бутоны бузлучков» (Федор Крюков. «Зыбь»).
*** Сквозистый – пропускающий сквозь себя свет; позволяющий различать что-либо сквозь себя. Пример: «в голых, сквозистых ветвях, в вишневых кустах, чуть запушенных первым пухом, клейким весенним пухом» («Зыбь»). Эта повесть написана летом 1909 г. в «Крестах». Там же, судя по тексту, сделана и эта дневниковая запись.
**** Исправлено из «вмиг».
***** Здесь «мiръ» в толстовском понимании (как человеческое единение)
Текст выполнен в авторской орфографии с «и десятеричным» и ятями, но в большинстве случаев без конечных еров.
Итак, в короткой этой записи (190 слов) запечатлен некий день, переломный для духовного пути Федора Крюкова. День этот можно уверенно датировать 10 июнем 1909 года, ведь описана прогулка по тюремному садику близ Невы, а с мая по август того года Ф. Д. Крюков провел в петербургских «Крестах»: подписавшие Выборгское воззвание депутаты Первой Государственной Думы по три месяца отсидели – кто здесь, а кто в московской «Таганке».
Снимем текстологические вопросы и перечитаем:
10 июня. Гуляли в пятом часу. В садике были длинные тени, солнце не пекло, от Невы наносило дымом и желанною свежестью. Уголовный с короткой бородкой, с серым лицом ворошил скошенную траву, – пахло ею, подсыхающей. Одну маленькую копешку склал. А где ворохнет, подымается светящийся пух бузлучков, или одуванчиков, – как сквозистые, мелкие мушки, – кружится, вьется, лезет в лицо. Маленькая бабочка трепещет крылышками и вся сквозит; и всё пахнет сеном и влажностью дождя, – луг, песок. Мечтает солдат-часовой, опершись на дуло, мечтают надзиратели, глядя невидящим взглядом перед собой, мечтают уголовные и политические. Опустив головы, заложив руки назад или в карманы, каждый думает о чем-то о своем… О чем? И странно, что мы вот кружим так по этим отшлифованным арестантскими ногами скользким камням, а не сойдемся в круг, не запоем общую песню; и слушали бы ее вечерняя свежесть и чуткость, и были трогательны наши – пусть арестантские – песни, и многое сразу стяжало бы сердце, и чувствовал бы в легких восхожение к сердцу людей, – и общность, и надежда, и единение… Какая-то трогательность у наших тенет и арестантской поэзии… Теперь понимаю «Славное озеро светлый Байкал…» и готов заплакать об этой горней тоске о воле, о потерянном мiре…
Начнем наш комментарий с последних строк крюковского текста: в стихах, написанных в 1848 году смотрителем (директором) Верхнеудинского уездного училища Дмитрием Давыдовым (он был племянником Дениса Давыдова) «Думы беглеца на Байкале», первая строка звучит «Славное море – привольный Байкал». С середины 1850-х, когда нерчинские каторжники распели это стихотворение, утвердился вариант «Славное море – священный Байкал». Вариант, который предлагает Ф. Д. Крюков, и уникален своей китежской реминисценцией (видимо, так это пели в «Крестах») и обладает небанальной поэтической мощью.
Наиболее полное эхо этого дневникового текста мы слышим в рассказе «Полчаса» (Русское Богатство, 1910, № 4), где также описана прогулка по тюремному дворику «Крестов». Вот о старике-заключенном, выкашивающем дворик: «Он ворошит подсохшие ряды и складывает меленькие копешки. От выспевших одуванчиков поднимается мелкий пух, как рой сквозистых мелких мушек. Медленно кружится в солнечном свете, вьется, летит навстречу – прямо в лицо. Маленькая бабочка трепещет крылышками, и так мило сквозят они на солнышке. Пахнет свежим сеном, веет мечтой о далекой родине, о сенокосе, о песнях…» В рассказ «Полчаса» со странички тюремного дневника залетела и маленькая бабочка, которая, как и в тесном дворике «Крестов», уютно «трепещет крылышками».
Дневниковый стиль Ф. Д. Крюкова явственно аукается со слогом дневника вольноопределяющегося студента (третья часть «Тихого Дона»). Это же относится и к оформлению дневника: дата поставлена слева сверху, состоит из числа (арабская цифра) и месяца (со строчной буквы, словом), а заканчивается точкой и абзацем.
Перед тем, как показать семантическую и духовную близость двух столь разных, казалось бы, дневников, остановимся на параллелях этой странички из дневника писателя и «Тихого Дона».
Опустим общеречевые и большинство лексических параллелей. Из того, что в 22 строке крюковского дневника встречается выражение «многое сразу стяжало бы сердце», а в «Тихом Доне» есть слова «стяжавший… славу» (ТД: 4, XIII, 90), ровным счетом ничего не следует. И не стоит очень радоваться, найдя в 14 строке идиому «опустив головы», а после дважды обнаружив такую же («опустив голову») в первой книге романа.
Обратимся к тем параллелям, которые следует признать редкими. И хотя каждая из них сама по себе тоже не может быть аргументом в споре об авторстве «Тихого Дона», весь этот отнюдь не разноголосый хор говорит нам о единстве речевой ткани двух текстов Федора Крюкова – его короткой дневниковой записи и четырехтомной казачьей эпопеи. И дело тут даже не в сумме лексических, синтаксических, образных и стилистических совпадений, дело в единстве того духовного конфликта, который в 1909 году выплеснулся на страницу дневника писателя, и результатом которого в конечном счете стал роман «Тихий Дон». Путь от ранней прозы Крюкова к его роману проходит через ушко этой скромной дневниковой странички.
Строки 3–4: «от Невы наносило дымом и желанною свежестью». Вспомним: «От проходивших сотен наносило конским потом и кислотным душком ременной амуниции» (ТД: 6, LX, 392).
Строка 6: «копешку склал». См.: «лежали копешками» (ТД: 4, III, 38). Кроме того, в романе несколько раз «поклали», «покладем».
Строка 7: «где ворохнет». В «Тихом Доне» глагол «ворохнуть» – многократно.
Строки 7–8: «светящийся пух… одуванчиков, как сквозистые, мелкие мушки».
Та же авторская метафора в «Тихом Доне»: «На лугу кисейной занавесью висела мошка». (ТД: 6, II, 21). Кисейная – это и есть светящаяся, «сквозистая» занавесь. Только в одном случае это пух одуванчиков, который сравнивается с мошкарой (так же лезет в лицо и в глаза!), а в другом – сама мошкара.
Строки 10–11: «и все пахнет сеном и влажностью дождя – луг, песок». См. в романе: «свежо и радостно запахло сеном» (ТД: 6, XXXVIII, 251). Так и в последней, явно сфальсифицированной части романа: «Свежо и радостно пахло сеном» (ТД: 8, VI, 359). При этом: «пахнет влажной травой» (ТД: 7, VIII, 62) И вновь Крюков: «Пахло отпотевшей землей и влажным кизячным дымом». (Первая фраза повести «Зыбь», которая пишется в тех же «Крестах» и в том же 1909-м). И еще из этой повести: «Согретая за день земля дышала влажным теплом, запахом старого подсыхающего навозца и клейким ароматом первой молодой зелени».
В романе выражение «влажная земля» встречается десять раз. С этим, может быть, самым любимым эпитетом Крюкова, многократно соседствуют почва, борозда, трава, опавшая листва, глина, суглинок, щебень, песчаная россыпь, ветер, глаза, взгляд, руки, усы, губы, зубы. Большая часть этого набора обнаруживается и в ранней прозе Крюкова: влажными оказываются тепло земли, дым, пыль, ветер, воздух, взгляд, глаза, руки, губы, зубы…
Строки 12–13: «мечтают надзиратели, глядя невидящим взглядом перед собой…». Вариации на тему этого клише, описывающего отрешенный взгляд человека, встречаются в «Тихом Доне» несколько раз. Практически полное совпадение формул таково: «…глядя перед собой невидящими глазами» (ТД: 4, VII, 81).
Строки 15–16: «каждый думает о чем-то о своем». Но: «думая о чем-то своем» (ТД: 1, XIV, 67); «думая о чем-то своем» (ТД: 3, XV, 348); «думая о чем-то своем» (ТД: 6, XX, 163).
Строки 16–18: «И странно, что мы вот кружимъ так по этим отшлифованным арестантскими ногами скользкимъ камням…» вскоре откликнулись в рассказе «Полчаса»: «Кружимся по узким плитам панели. Арестантские ноги отшлифовали их под мрамор…»
Строки 21 и 24 (о песне): «трогательны наши… песни… надежда и единение». В романе: «перед лицом надвигающейся опасности, трогательно единитесь» (ТД: 4, XVII, 164); и в следующей книге именно о пении: «И, сливая с его тенорком, по-бабьи трогательно жалующимся, свой глуховатый бас» (ТД: 6, XLI, 273).
Строка 23: «восхожение (так! – А. Ч.) к сердцу людей». А вот сухой остаток одного разговора Петра и Григория Мелеховых: «И ему и Григорию было донельзя ясно: стежки, прежде сплетавшие их, поросли непролазью пережитого, к сердцу не пройти» (ТД: 6, II, 26).
Один выбирает путь родной Донщины, другой – путь к красным.
«Восхожение к сердцу людей» – самая сокровенная мысль этой дневниковой записи Федора Крюкова. Это парафраз из четвертой песни Великого канона святителя Андрея Критского: «Лествица, юже виде древле великии в патриарсех, притча есть, о, душе моя, детельнаго восхожения (! – А. Ч.), разумному возшествию. Аще хощеши убо, деянием, и разумом, и видением живущи, обновися». В переводе: «Лестница, которую в древние времена видел великий патриарх, – это прообраз, душа моя, восхождения в деянии, ради возвышения разума. И если хочешь, то обновись жизнью – в делах, в разуме и в созерцании». (Здесь и ниже новейший перевод подмосковного священноинока-старообрядца Симеона.) Этому однако предшествует размышлении о том, почему «осужден» святитель (вспомним, что дневник Крюкова пишется в тюрьме). Андрей Критский кается: «Нет в жизни ни греха, ни дела, ни зла, которым бы я, Спасе, не согрешил – умом, и разумом, и хотением, и готовностью, и нравом, и поступком. Согрешил – как никто никогда. Вот от чего я осужден, вот от кого обличен я, окаянный: от своей совести, тяжелее которой нет ничего в мире. Судия и Избавитель мой, Знающий меня, пощади, и избавь, и спаси меня, раба Твоего». При помощи реминисценции этот контекст и включен в дневниковую запись узника «Крестов».
Строки 26–27: «готов заплакать…». Ср.: «От запаха степного полынка мне хочется плакать…» (ТД: 4, XI, 113).
Второй пример – ставшая популярной после стихотворения А. Н. Майкова «Емшан» (1874) реминисценция из «Ипатьевской летописи», в которой речь об утрате изгнанником вместе с родиной и смысла жизни.
Десять лет писатель Крюков провел в изгнании: в июле 1907 года в родной станице Глазуновской он был обвинен в «революционной пропаганде», его дом обыскали, и хотя суд оправдал подозреваемого, в августе распоряжением наказного атамана бывший депутат Первой Государственной Думы был выслан за пределы Области войска Донского. Редчайший этот в российской истории случай ссылки из провинции в столицу империи может кому-то показаться комическим, однако для влюбленного в свою Донщину писателя отлучением от родины было серьезным испытанием.
Сюжет «Емшана» заимствован из летописи (в Ипатьевской он под 1201 годом): после смерти Владимира Мономаха загнанный им за Железные ворота половецкий хан Отрок возвращается, когда ему дают понюхать сухой пучок емшана (таково одно из тюркских имен полыни). При этом другой хан говорит гонцу: «пои же ему пѣсни Половѣцкия, оже ти не восхочеть, даи ему поухати зелья именемъ емшанъ»:
Ему ты песен наших спой,–
Когда ж на песнь не отзовется,
Свяжи в пучок емшан степной
И дай ему – и он вернется.
Почему арестант Крюков готов заплакать от запаха сена и неспетой «всем мiром» тюремной песни о каторжнике, который переплыл Байкал в омулевой бочке, но не хочет уходить в чужие страны («Можно и тут погулять бы, да бес / Тянет к родному селенью»)?
Ответ у Майкова:
Степной травы пучок сухой,
Он и сухой благоухает,
И разом степи надо мной
Все обаянье воскрешает.
Однако у Крюкова в рассказе «Шквал» (тот же 1909 год!) в роли летописного половецкого емшана не полынь, а чобор: «…вместе с влажной свежестью навстречу плывет тонкий, всегда напоминающий о родине запах речного чобора».
Чебрец (в романе – «богородицына травка», чобор чебор, чеборец) цветет сиренево-пурпурными – цвета ризы Богоматери – цветами. Он для Крюкова – символ Покрова Богородицы, и потому напрямую связан с Троицей (на Троицу им украшают иконы). В этом контексте чобор и воспет в «Тихом Доне». А поэтому, когда станет ясно, что поражение казаков неизбежно, и многим придется уйти на чужбину, будет сказано: «по ветру веялись грустные, как запах чеборца, степные песни» (ТД: 6, XLVI, 291). Но и пленный красноармеец идет на казнь, «прижимая к сердцу пучок сорванного душистого чеборца» (ТД: 7, III, 31). И Богородица в образе старухи-казачки спасает его. Так Крюков продолжает летописную и майковскую тему, заменяя полынь «богородицыной травкой»
Трудно представить, чтобы два разных автора логическими умозаключениями пришли к таком совпадению метафорических констекстов.
Строки 27–28: «готов заплакать об этой горней тоске о воле, о потерянном мiре…» – это и кульминация, и концовка текста. Главная параллель, объединяющая запись из тюремного дневника писателя и строки из дневника казака-студента в «Тихом Доне» (от 30 июля) такова: «Приходится совершенно неожиданно взяться за перо. Война. Меня сжирает тоска об… (в изданиях «по…» – А. Ч.) “утерянном рае”» (ТД: 3, XI, 318).
Ссылка на поэму Милтона в комментариях не нуждается. Но откликается здесь и знаменитая толстовская игра: «Война и мир» (так на слух) и «Война и мiр» (на титуле).
И еще одно наблюдение: Шолохов, только однажды употребив в «Тихом Доне» слово «копешка», сделал его популярным у советских писателей, особенно деревенщиков.
Вот как оно прозвучало в романе: «В нескольких местах отравленные лежали копешками, иные застыли, сидя на, корточках, некоторые стояли на четвереньках – будто паслись, а один, у самого хода сообщения, ведущего во вторую линию окопов, лежал, скрючившись калачиком, засунув в рот искусанную от муки руку» [М. А. Шолохов. Тихий Дон. Книга вторая (1928–1940)].
Собственно, понятно, почему так произошло: слишком страшным было это описание людей, потравленных газовой атакой.
Однако по электронному Национальному корпусу русского языка следует, что мелькнувшее в крюковском тюремном дневнике 1909 года слово «копешка» русской литературе привил не Шолохов, а тот же Крюков: «Он ворошит подсохшие ряды и складывает маленькие копешки» [Ф. Д. Крюков. Полчаса // «Русское Богатство», 1910].
10 июня 1909 года «тоска… о потерянном мiре» (общности живущих на земле).
30 июля 1914 года «тоска об утерянном рае» – о том «мире», который писался через «и восьмеричное» и подразумевал отсутствие войны.
Оказывается, запись в тайном тюремном дневнике писателя имеет в дневнике казака-студента отнюдь не только стилистические и лексические соответствия.
Добавим к этому, что, сводя два варианта дневника студента, коллективный Шолохов не заметил, противоречия: в одном роман студента с Лизой Моховой происходил в Петербурге, а в другом – в Москве. Кроме того, по одной авторской версии студента зовут Тимофеем Ивановичем, по другой – Александром Ивановичем. Да и родился студент в двух разных донских станицах. (Об этом см.: Зеев Бар-Селла «”Тихий Дон” против Шолохова» в сб. «Загадки и тайны ”Тихого Дона”», Самара, 1996. С. 13–141.)
В шолоховском тексте до издания 1949 года (см.: М., ГИХЛ, 1941. С. 127) на равных правах представлены оба варианта – Тимофей/Александр. Это не плод буйной фантазии юного пролетарского классика, это простое неумение отредактировать текст и свести в одну две редакции. Свидетельством тому – дуплетность имени студента, которая отсылает нас к тому же тюремному крюковскому тексту, а точнее, – к его дате. Варианты имени студента легко объяснимы тем, что именно 10 июня старого календарного стиля поминали и священномученика Тимофея, и мученика Александра (оба проповедовали Христа в IV веке).
А именно 10-м июня и помечена крюковская дневниковая запись из «Крестов».
Если для верующего узника «Крестов» день 10 июня и впрямь стал столь значительным духовным рубежом, как это представлено в его дневниковой записи, вряд ли такое тройное совпадение – простая случайность. Перед нами семантический ключ (если угодно – род «магического кристалла» писателя). Это то, что важно, как в таких случаях полагал Пушкин, не для публики, а для самого автора – та многомерная сеть живых стилистических связей, которая в конечном случае и отличает литературу от ее плоской имитации в духе «Донских рассказов» или «Поднятой целины», или «оперетки на военную тему» (как выразился Виктор Астафьев о романе «Они сражались за родину»).
После разгона Первой Государственной Думы писатель возвращается домой, но решением донского атамана его отправляют в небывалую на Руси ссылку. Из Области Войска Донского ссылают в Петербург. В Питере, впрочем, судят. И потому через три года – одиночка в «Крестах». На три месяца.
А потом он, статский советник, несколько лет работает на Васильевском острове в Горном институте. Помощником библиотекаря.
***
Мечты о «восхожении к сердцу людей» рухнут в начале 1918-го.
Очерк «В углу», рассказывающий о тех днях, он закончит так:
«…Обыскивали буржуев – и мелких, и покрупнее – конфисковали по вдохновению все, что попадалось под руку, иногда вплоть до детских игрушек, прятали по карманам что было поценнее.
– Алексей Данилыч, вы не возьметесь ли дрова попилить? – спрашиваю одного приятеля из чернорабочих.
– Некогда. В комиссию назначен.
– В какую же?
– В кулитурную… По кулитурной части.
– А-а… дело хорошее.
– Ничего: семь рублей суточных… имеет свою приятность…»
И это до большевиков. Их вторжение на Дон еще впереди.
PS: Приношу сердечную благодарность Марине Анатольевне Котенко, хранителю рукописей Крюкова, архивистам-библиотекарям фонда Ольге Николаевне и Наталье Борисовне (из скромности не назвавших своих фамилий), а также Андрею Макарову.
ЭПИГРАФ К РОМАНУ
Близорукий, книжный, в 1917 он возвращается на родину и становится директором Усть-Медведицкой гимназии, в 1918 берет в руки казачью шашку и вместе со своими учениками записывается добровольцем в дружину. В первом же бою конь под ним убит, а его контузило. Сам шутил: «Под старость довелось изображать генерала на белом коне…».
Он, пожалуй, единственный изо всех известных русских интеллигентов той поры, действительно пытался остановить «большевистское нашествие». Его вновь избирают – теперь уже секретарем Войскового круга (Донского парламента). При этом еще и редактирует новочеркасские «Донские ведомости», правительственную газету.
А дальше – смерть при отступлении в Новороссийск.
Может быть, самая загадочная изо всех смертей русских писателей.
Он не «ходил в народ», как старшее поколение народников-интеллигентов. Он сам был народом. Говорил и думал на народном языке, много и охотно пел с казаками (и пел хорошо!).
Его младший современник вспоминал:
«Когда Крюков был в расцвете своей литературной славы, нас, учащихся, в станице насчитывалось уже с десяток, и все мы с нетерпением и радостью ожидали его приезда на летние каникулы. Знали, что наши барышни будут смеяться над его длинными, до колен, синими и черными сатиновыми рубахами и залатанными штанами. В особенности донимала его моя сестра:
– И что вы, Ф. Д., все в рваных штанах ходите, хоть бы по праздникам надевали добрые!
– Чаво же, А. И., по садам за бабами гоняться – все равно порвешь, так уж Маша (сестра) и не дает мне новых штан».
Веселый человек.
Только вот коллеги по литературному цеху запомнили его вечно печальные глаза.
Несложно объяснить, почему именно этот интеллигентный, мягкий человек левых убеждений, с такими грустными глазами и таким чувством юмора (в диапазоне от чего-то очень набоковского до простецкого дедо-щукарского), не просто «не принял советскую власть», а стал с ней деятельно бороться. Для этого надо просто прочитать его публицистику 1917–1919 годов. Сборник «Обвал. Смута 1917 года глазами русского писателя», целиком из статей Крюкова, вышел в московском издательстве АИРО-ХХI. (Мой друг и коллега Михаил Михеев разыскал в архиве полуистлевшие подшивки донских газет, оттиснутых на оберточной бумаге, и вместе с ним и филологом из Нальчика Людмилой Вороковой мы ту книгу готовили.)
Филолог, он не только пел со станичниками, но и записывал их песни (так же, как пословицы, поговорки, словечки, сюжеты).
21 мая (3 июня) 1919 г. газета «Донские ведомости» опубликовала написанную Федором Крюковым редакционную статью «Войсковой Круг. Живые вести». Здесь цитируется старинная казачья песня:
Чем то, чем наша славная земелюшка распахана?
Не сохами она распахана, не плугами,
Распахана земелюшка наша конскими копытами [3]
Засеяна казацкими буйными головами.
Чем-то наш батюшка Тихий [4] Дон цветен?
Цветен наш батюшка Тихий Дон вдовами да сиротами.
Чем-то в Тихом Дону вода посолена?
Посолена вода в Тихом Дону горькими сиротскими слезами…
За четверть века до этого в очерке Крюкова «Шульгинская расправа» (1894) находим другой вариант:
Не сохами-то славная земелюшка наша распахана, не плугами,
Распахана наша земелюшка лошадиными копытами.
А засеяна славная земелюшка казацкими головами.
Чем-то наш батюшка славный тихий Дон украшен?
Украшен-то наш тихий Дон молодыми вдовами.
Чем-то наш батюшка тихий Дон цветен?
Цветен наш батюшка славный тихий Дон, цветен?
Чем-то в славном тихом Дону волна наполнена?
Наполнена волна в тихом Дону отцовскими-материными слезами.
В этой публикации пропущен ответ на вопрос «Чем-то наш батюшка тихий Дон цветен?» (Про вдов и сирот ни слова.) Кроме того, текст начинается со второй строки, а первая вынесена в предыдущий абзац: «– “Ой, да чем наша славная земелюшка распахана”, – облокотившись на стол и глядя вниз, запел Булавин своим густым сильным басом…».
Именно так, со второй строки начинается и эпиграф к «Тихому Дону»:
Не сохами-то славная землюшка наша распахана…
Распахана наша землюшка лошадиными копытами,
А засеяна славная землюшка казацкими головами,
Украшен-то наш тихий Дон молодыми вдовами,
Цветен наш батюшка тихий Дон сиротами,
Наполнена волна в тихом Дону отцовскими, материнскими слезами.
Может показаться, что этот эпиграф близок к варианту из «Шульгинской расправы» (практически дословно совпадают пять из шести строк).
Но базовым (совпадают все шесть стихов) оказывается текст из крюковского «Булавинского бунта» [5]: именно здесь, помимо прочих, мы находим и стих, не имеющий параллели в «Шульгинской расправе»: «Цветен наш батюшка славный тихий Дон сиротами»:
Чем-то наша славная земелюшка распахана?
Не сохами-то славная земелюшка наша распахана, не плугами,
Распахана наша земелюшка лошадиными копытами,
А засеяна славная земелюшка казацкими головами.
Чем-то наш батюшка славный тихий Дон украшен?
Украшен-то наш тихий Дон молодыми вдовами.
Чем-то наш батюшка славный тихий Дон цветен?
Цветен наш батюшка славный тихий Дон сиротами.
Чем-то во славном тихом Дону волна наполнена?
Наполнена волна в тихом Дону отцовскими-материными слезами…
При жизни писателя «Булавинский бунт» (рукопись 1890-х) опубликован не был.
Заметим, что в эпиграфе к роману из стиха «Цветен наш батюшка славный тихий Дон сиротами» изъят эпитет – «славный». Это указывает на руку писателя Федора Крюкова и на время, когда в рукописи появился эпиграф: именно бесславие современных сыновей Дона – лейтмотив крюковского стихотворения в прозе 1918 года «Край родной» (другое название «Родимый край»):«Во дни безвременья, в годину смутную развала и паденья духа…». И о том же: «курганы в мудром молчании, берегущие зарытую казачью славу…» (ТД: 6, VI, 64).
Сравним: «В годину смуты и разврата …» (ТД: 5, XXXI, 397); «И в угрюмом молчании слушали могучую песню потомки вольных казаков, позорно отступавшие, разбитые в бесславной войне против русского народа…» [6] (ТД: 7, XXVIII, 279).
Да, он многие годы собирал казачьи песни. Однако песня для эпиграфа «Тихого Дона» не была составлена из трех ее вариантов – в основе лежит сокращенный вариант рукописи «Булавинского бунта». При обработке песни был повторен и впервые нащупанный Крюковым в «Шульгинской расправе» прием сокращения текста: все риторические повторы изымаются и песня по сути превращается в стихотворение.
Не только восхождение текста из «Тихого Дона» к неизданной крюковской записи (это можно оспаривать, ссылаясь на покуда невыявленные публикации рубежа XIX–XX веков), но сам метод обработки фольклорного текста указывает на то, что эпиграф к роману отредактирован автором «Булавинского бунта».
Когда в 1928 в журнале «Октябрь» появились первые главы «Тихого Дона», еще остававшиеся в живых поклонники Крюкова в голос возопили: «Да это ж Федор Дмитриевич писал!» В марте 1929 рты им заткнула газета «Правда» «…врагами пролетарской диктатуры распространяется злобная клевета о том, что роман Шолохова является якобы плагиатом с чужой рукописи». (Забавная проговорка: клевета о том, что якобы… плагиат!)
Лет за десять этих, уже не кричавших, а шептавших, успокоят по-сталински.
В 1974, в Париже, с предисловием Солженицына была издана книга Ирины Медведевой-Томашевской «Стремя Тихого Дона». Книга о том, что самый знаменитый советский роман написан лютым врагом советской власти.
С конца 1980-х Крюкова стали понемногу издавать, но, как подсчитал библиограф А. А. Заяц, десять томов его сочинений разбросаны по периодике конца позапрошлого и начала прошлого века. Десятки параллелей прозы Крюкова и «Тихого Дона» выявил ростовский исследователь Марат Мезенцев. Не все они убедительны. Но на закате советской власти еще не было электронных поисковых систем. Да и персональные компьютеры были у немногих.
Писатель Федор Крюков плохо издан и поверхностно прочитан.
Опубликованная в 1909-м благополучном году его повесть «Зыбь» – лишь зарница грядущих гроз и бед, и потому по мощи с бурей «Тихого Дона» не сравнится: не было еще ни трагедии Германской войны, ни революции, ни большевистского переворота. Не было той концентрации трагического, которая и дала великого писателя, задумавшего писать бытовой роман о казачестве в 1912-м и еще не знавшего, что через два года начнется российская катастрофа. Пушкинский принцип «свободного романа» (если угодно – романа-дневника) сработал и на этот раз. Трагедия преобразила бытописательную ткань так, как она способна преобразить только душу художника.
М. Т. Мезенцев заметил, что Федор Крюков – художник, не боявшийся самоповторов. (Уточним: то, что на первый взгляд представляется самозаимствованием, можно назвать каноном. Этот метод литературной работы очень похож на метод работы нерядового иконописца. Суть его в развитии и переосмыслении уже раз написанного, в попытке каждый раз написать лучше, чем в прошлый раз.)
При этом Крюков не боится вербальных повторов даже в одном абзаце. Это не недосмотр, а черта стиля: таким образом ткется затейливый узор его поэтической ткани. Именно узор, словесный обряд, строго расчисленный и регламентированный традицией, как фольклорный хоровод:
«Грело солнышко. Тонкие тени от голых веток робким сереньким узором ложились на зелено-пестрый ковер непаханой балки. Тонким, чуть уловимым, нежно жужжащим звоном звенели какие-то крошечные мушки с прозрачными крылышками, весело кружились в свете, нарядные, резво-радостные, легкие, праздничный хоровод свой вели… И тихо гудели ноги от усталости. Тихо кралась, ласково обнимала голову дремота. Так хорошо грело спину солнышко…» («Зыбь»).
Орловский журналист Владимир Самарин вспоминал, как поразило его когда-то интонационное родство повести Крюкова «Зыбь» (1909) с пейзажными описаниями «Тихого Дона»:
«Пахло отпотевшей землей и влажным кизечным дымом. Сизыми струйками выползал он из труб и долго стоял в раздумье над соломенными крышами, потом нехотя спускался вниз, тихо стлался по улице и закутывал бирюзовой вуалью вербы в конце станицы. Вверху, между растрепанными косицами румяных облаков, нежно голубело небо: всходило солнце».
Считается, что интонация иногда может совпасть случайно.
Но не могут просто так «совпасть» десятки стилистических конструкций, поворотов сюжета, редчайших эпитетов и нигде не зафиксированных поговорок, авторских метафор и таких диалектных словечек, которых до Крюкова и после него не использовал ни один из русских писателей. (Разумеется, кроме автора «Тихого Дона»).
Красть роман у Крюкова было безумием: в его текстах много самоцитат. Но кто знал в 1920-х, что появится интернет? И в нем – Национальный корпус русского языка.
В этой копилке объем текстов русских писателей уже превысил 150 миллионов слов.
ХРОНИКА УЗНАВАНИЯ
Когда в конце 1990-х всплыли шолоховские рукописи, по ксерокопиям нескольких страниц исследователь Зеев Бар-Селла предположил, что это не оригинал, а безграмотная копия с грамотного оригинала, выполненного к тому же по дореволюционной орфографии. Кроме того, в «черновых» и «беловых» рукописях исправлен ряд ошибок, которые обнаруживаем… в первоиздании.
В 2006 Институт мировой литературы издал шолоховские «черновики» и «беловики» романа. И тем убил им же и выпестованный миф. Потому что перед нами не черновики, а типичная туфта. Тот же тезис высказал и доказал московский исследователь Андрей Макаров, проанализировавший хронологические пометы на полях «черновиков» и пришедший к выводу о том, что они не имеет ничего общего с действительностью. Это бутафорская имитация хронологии.
См.: Андрей Макаров. «Тихий Дон»: загадки шолоховской рукописи
http://www.airo-xxi.ru/2010-03-28-17-40-45/256-l-r-
Шолоховеды утверждают: эти некогда потерянные и чудесным образом новообретенные рукописи классик предоставлял в 1929-м «комиссии по плагиату». А потом оставил у своего московского приятеля.
И это правда. Однако, зная где хранятся «черновики», он не показал их и после того, как вышла книга Ирины Медведевой-Томашевской. Ответственные товарищи, надо полагать, объяснили ему 29-м, что сработал он, как двоечник на переменке: сдул, не понимая смысла того, что копирует.
Что же мы видим в этих «черновиках»?
Да всё ту же туфту. Церковное «аки лев» обернулось дикой берендейщиной «как илев», фольклорное песенное «коляда-дуда» «колодой-дудой» (это заметил москвич Алексей Неклюдов, так до сих пор и в романе), «колёсистый месяц» (луна) стал «колосистым месяцем». Шолоховский «пушистый козел», который топчется в навозе, – на самом деле тушистый (тучный). «Скипетр красок» – это «спектр красок», при списывании вставок в роман из чужих мемуаров механически повторена типографская опечатка: «ответственность перед Замком» (вместо: «перед Законом») и т. д.
Зеев Бар-Селла, говоря о конфликте Григория Мелехова с его соседом по хутору Степаном Астаховым, обращает внимания на строки: «Суждено было Григорию Мелехову развязывать этот узелок два года спустя в Восточной Пруссии, под городом Столыпиным» (ч. 1, гл. 14). Дело в том, что по внутренней хронологии романа драка братьев Мелеховых со Степаном Астаховым произошла в середине лета 1912 года. И, следовательно, слова «два года спустя» означают — лето 1914 года! Тут, как нельзя кстати, «город Столыпин». Это четкое и недвусмысленное указание на один-единственный день – 4 (17) августа 1914 года. Города Столыпина на карте Восточной Пруссии нет и не было. Был город Stalluponen, в нынешнем русском написании Сталюпенен или (более близком к немецкому оригиналу) – Шталлюпенен. На русских же штабных картах 1914 – 1915 годов город этот назывался: Сталупененъ. Он дал имя первой в европейской войне наступательной операции русских войск – Сталлюпененское сражение. Для чего пришлось перекореживать славное в истории русского оружия имя? Ведь «Столыпиным» он назван дважды, причем не в речи персонажей, а в авторской! А правильно он вообще ни разу не назван! Причина – Шолохов. Он не сумел прочесть название города в рукописи и, переписывая, поставил, вместо правильного (в том числе и грамматически): «под городом Сталупенен», свое дурацкое: «под городом Столыпиным».
Тот же Бар-Селла заметил и объяснил еще одну шолоховскую несуразицу: в издании 1930 г. конный отряд едет по степи: «Человек десять конных молча, в беспорядке ехали по дороге. На площади впереди выделялась осанистая, тепло одетая фигура». Откуда взялась площадь на степном шляхте? Через два года редакторы поправили: «На пол-лошади» (то есть впереди полкорпуса лошади).
Писателя, столь смутно представляющего себе нормы языка и нормы стиха, можно сравнить только музыкантом без музыкального слуха, или со слепым живописцем. В песне, которую слышит Григорий, вернувшись на Донщину после ранения, есть странная строчка:
На завалах мы стояли, как стена.
Пуля сыпалась, летела, как пчела.
А и что это за донские казаки —
Они рубят и сажают на штыки.
(3, XXIV, 396)
Проблема о сбое ритма (шестистопного хорея) в третьей строке: «А и что это за донские казаки…» Так и в рукописи (3/119). Но в казачьих песнях: «Ай спасибо тебе, царь белый, что поил нас, что кормил…»; «Ай ты гой еси, турецкой царь…»; «Ай же вы гости азовские…»; «Ай, полно, полно нам, братцы, крушиться…»; «Ай, да на славной было, братцы, на речушке…»
Стих должен звучать: «Ай что это за донские казаки…» Глухой не только к стиху, но и вообще к русскому слову, копиист сломал размер стиха и никогда этого не понял.
Ряд исправлений в «черновиках» трудно истолковать иначе, чем попытку разобрать чужой почерк, например: «У дома» — написано, зачёркнуто, исправлено на «у Дона». «Аксинья улыбается снова, не разжимая зубы» — написано, зачёркнуто, исправлено на «Аксинья улыбается строго, не разжимая губ».
Или такое: «…вторая жена узконосая (!) Анна Ивановна оказалась бездетной» (2 часть ТД. «Черновая» рукопись. С. 2). Это по «беловой» рукописи и первом «октябрьском» изданию 1928 г. корректное и объясняющее бездетность: «узкокостная Анна Ивановна» («Октябрь», № 2, 1928. С. 126).
Правка, которую переписчик позволил себе, достойна анекдота: «Лошади повернулись к ветру спиной» (попробуйте вообразить!) и «Снег доходил лошадям до пояса» (вместо «до пуза»). Это уже не черновики, а канонический текст романа. Впрочем, как и «колода-дуда» и многое другое…
Очерк Крюкова «Мельком» (1914) наполнен десятками словечек, полуцитат и реминисценций из ненаписанного еще «Тихого Дона». Однако не стану утомлять читателя многостраничными выписками.
Наиболее комичный случай (бог шельму метит!) произошел со словом стремя – ‘стремнина реки’, отсутствием которого у Крюкова шолоховед Ф. Ф. Кузнецов гордится, как собственной заслугой. Но Крюкова стремя встречается дважды, а вот Шолохов его явно увидел впервые в ТД: в «черновой рукописи» на первой же странице читаем «стрЯмя… Дона».
Стремя – стремнина реки, быстрое течение (ДС)
Близкую к ТД параллель обнаружил С. Л. Рожков (чьей расшифровкой крюковского очерка мы воспользовались): «В одном месте едва не опрокинулись: попали на каменное заграждение, образовавшее порог. Быстрым потоком бросило нас на камень, повернуло лодку бортом поперек стремени, и „Энэс“ едва не хлебнул водицы. Но… „упором“ выровнялись, снялись и благополучно вынеслись в безопасное русло» («Мельком», гл. 5. РБ, 1914, № 8. С. 171). Сравним: «Баркас царапнув кормою дно [скользнул] осел в воде и отошел от берега. Стремя подхватило его, понесло покачивая, норовя повернуть боком. Григорий не огребаясь правил веслом» (ТД, рук, 1 ред. С. 5).
По изданию: «Баркас, черканув кормою землю, осел в воде, оторвался от берега. Стремя понесло его, покачивая, норовя повернуть боком» (ТД: 1, II, 14).
В ТД «стремя» как стремнина реки 5 раз в 1 книге, 2 раза во 2 (здесь же однажды и «воздушное стремя»), 4 раза в 3 книге. Добавим сюда же: «Мы теперь к дороге должны спуститься: где-нибудь у станции заляжем, дождемся поезда, на ходу вскочим и на крышу вагона. Только бы не ошибиться, мол, попасть на правильное стремя, – в Италию, а не в Швейцарию» («Итальянец Замчалов»); «– Д-да… Ну однако идем. Вижу: гонит он меня прямым стремем в Лопуховку» (Крюков. «В гостях у товарища Миронова»).
Во всех изданиях «Тихого Дона» про течение Дона читаем:
«Против станицы выгибается Дон кобаржиной татарского сагайдака, будто заворачивает вправо, и возле хутора Базки вновь величаво прямится, несет зеленоватые, просвечивающие голубизной воды мимо меловых отрогов правобережных гор, мимо сплошных с правой стороны хуторов, мимо редких с левой стороны станиц до моря, до синего Азовского. Против Усть-Хоперской роднится с Хопром, против Усть-Медведицкой – с Медведицей, а ниже стекает многоводный, в буйном цвету заселенных хуторов и станиц».
И с абзаца: «Вешенская – вся в засыпи желтопесков. Невеселая, плешивая, без садов станица».
Так и в «черновой» рукописи (с. 42). И в «беловой», переписанной нешолоховским почерком (видимо, почерк жены; с. 48).
Описан путь Дона от Вешенской (с нее в 1919-м началось восстание против красных) до Усть-Медведицкой (родная Крюкову станица, он здесь с серебряной медалью закончил гимназию).
Однако перечитаем еще раз концовку этого пассажа. «…Заселенных хуторов и станиц».
Можно предположить, что это диалектизм (в смысле ‘многонаселенных’), но словарями он не ловится. Если же это все-таки диалектизм (в смысле ‘многонаселенный’), то фраза становится почти абсурдной. Что, верхние станицы «малонаселенные»? Вешенская по течению выше, но покрупней Глазуновки. И Усть-Медведицкая (ныне город Серафимович) куда крупней станиц в нижнем течении Дона.
Возможно, ошибка в одной букве. Надо: «…ЗасОленных хуторов и станиц».
Речь о засоленных землях нижнего течения Дона.
Достаточно погуглить: «Солончаки на Нижнем Дону».
Первая же ссылка выдаёт такое:
«На Нижнем Дону ледовые явления носят нестабильный характер. … Кроме плавней, в дельте Дона встречаются крупноосоковые болота, луга сильного увлажнения, солонцы и солончаки, пески..».
Сделаем ряд выписок:
ТД, кн. 1. С. 196:
— То-то добришша, у вас ить там песчанзя степь.
— Супесь, по энту сторону лога — солончаки.
Крюков. «Жажда»:
– Ага, теснота! Когда-то дикие люди зверя промышляли, тем и кормились. И все на тесноту жаловались, пока умней не стали. Как вот и мы же… Разве это теснота? Это если бы с знанием разработать – тут миллионы! И будет время, в десять раз больше народу тут будет кормиться. А теперь посмотрите кругом: безнадежность! Это хлеб?.. Это травы?.. Что сделали мы с этой землей? Пустыню! Глина, солонец, медные плешины, сорная трава, все, как камень, твердые, неразбитые комья и – безвыходная зависимость от дождя. A его вовремя нет!
Крюков. «Мечты»:
– И даже с удовольствием. В стражники уйду. Месяц прошел – подай полсотни! А там, глядишь, какой двугривенный и набежит… А в моей земле какой толк? Солонец, глина, выпашь. Ржавь одна. В людях хлеб, а у меня хлебишко.
Крюков. «Шквал»:
– Так точно, ваше п-ство. Да у нас негде, позвольте доложить. Все запахано. Шпили, солонцы остались, но там земля клёклая. Свинец, а не земля… ничего не вырастет…
Крюков. «Ползком»:
Где-то затерялся тут человек, сжался, ушел в нору, сдавленный не теснотой жизни, а этой пространной пустынностью, оголенностью, стихийным надвиганием песков, солонцами, летним безводьем и непроезжими грязями осенними.
Крюков. «Четверо»:
шлепают босые ножки по твердому солонцу улицы…
И даже во второй книге «Поднятой целины» (наследие Крюкова перерабатывалось и тут):
«На Кавказе господь бог для чего-то горы наворочал, всю землю на дурацкие шишки поднял, ни проехать тебе, ни пройти. А вот зачем он нас, то есть гремяченских казаков, обидел, — в толк не возьму. Почти полтысячи десятин доброй земли засолил так, что ни пахать, ни сеять на ней извеку нельзя. По весне под толоку она идет, и то ненадолго, а потом плюнь на эту проклятую землю и не показывайся на ней до будущей весны. Вот и весь от нее толк: полмесяца хуторских овчишек впроголодь кормит, а после только по спискам за нами значится да всяким земным гадам — ящерам и гадюкам — приют дает».
…Но только наиболее вероятен другой эпитет. В «Гулебщиках, раннем рассказе Крюкова, казаки поют:
Погляди-ка, моя сударушка, ты в чистое поле:
Не белы-то снеги в чистом поле забелелися,
А забелелися дружка милого белые палаты…
Поэтому в оригинале могло быть: «…в буйном цвету забеленных хуторов и станиц».
Тут в песенном эпитете умещаются и нижнедонские солончаки, и белопенное кипение цветущих садов, и скрывшиеся под их сенью побеленные саманные курени.
Невозможен (ибо вне языка и вне поэтики) только один вариант: тот, что опубликован во второй части романа.
Перечитаем:
«…в буйном цвету [забеленных] хуторов и станиц».
И с абзаца: «Вешенская – вся в засыпи желтопесков. Невеселая, плешивая, без садов станица…»
То есть цвет Вешенской – желтый, цвет песка. А низовые станицы (после Усть-Медведицкой) – белые от цветения садов, от побеленных по весне хат, от мерцания меловых гор и солончаков. А если этот абзац писался (или переписывался) в 19-м, то это еще и цвет Добровольческой армии.
Кстати, Крюков иногда писал «б», как «С». При бисерном его почерке нижний кружочек буквы «б» часто «сдувался» (как воздушный шарик!) превращаясь в косой штрих. И буква напоминала прописное «С».
ИМЕННАЯ ПРОБЛЕМА
Особенные проблемы испытывает копиист с некоторыми именами свих героев.
Аксинья в тексте рукописи названа то так, то многократно Анисьей. Причем на одной странице, даже в одном предложении могут встречаться оба варианта.
Хотя на 8 странице рукописи «Анисья», уже на 15-й трижды Аксинья, она же четырежды на 16-й, два раза на 17-й, пять раз на 18-й (здесь же «Аксютка»), далее раз на 19-й, трижды на 20-й, четырежды на 21-1 и тут же вновь «Аксютка», и еще многократно на 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33
Однако на с. 34 дважды Анисья (сверху синим карандашом переправлено на «Аксинья») и дальше: Анисья – Аксинья – Анисья – Анисья
С. 35: Аксинья – Анисья
С. 36: пять раз Аксинья и однажды Анисья
С. 37: трижды Анисья – дважды Аксинья – Анисья – дважды Аксинья
С. 38: трижды Аксинья – Анисья
С. 47: четыре раза Аксинья
С. 48: Анисья – дважды Аксинья – Ксюша – Аксинья –дважды Анисья – трижды Аксинья
С. 49: дважды Аксинья – Анисья – Аксинья – дважды Анисья – дважды Аксинья –Анисья
С. 50: Аксинья
С. 55: Анисья – шесть раз, потом Аксинья – три
С. 56: Аксинья трижды – Ксюша – Аксинья трижды и после трижды Анисья
С. 57: Анисья – Аксинья – Анисья четырежды – Аксинья
С. 58: Анисья – Аксютка – Анисья – Анисья – Аксинья – Аксинья
С. 59: Анисья – Аксинья – Аксинья – Анисья – Аксинья – Аксинья – Анисья
С. 60: четырежды Анисья (и тут же Иван Семенович)
С. 61: Аксютка
С. 72: Аксинья и Анисья
С. 73: Аксинья
С. 80: Аксинья и Анисья.
Изредка мелькнет Анисья и в «черновиках» второй части романа (с. 18, 41, дважды 53, 57 и дважды 61 «черновиков» второй части с позднейшей правкой красным карандашом на «Аксинью»). На с. 48 сбоку на полях размашистая «резолющия»: «Дать Анисью и разговор с бабой».
Итак, Шолохов оба имени считает вариантами одного: «Страх ли поднял Аксинью, или снесла бабья живучая натура, но Анисья…» (с 49 «черновиков» первой части).
Но откуда такое могло быть в протографе?
А такого и не было.
Путаница говорит, что в протографе стояло в одних случаях «Анисья», а в других просто «А» (ведь это были именно черновики). А потом появилась «Аксинья», и автор также обозначил новое имя буквой «А». Переписывая, Шолохов каждый раз расшифровывал так, как ему казалось нужным, ведь «Анисья» и впрямь может показаться уменьшительным от «Аксиньи».
Для народа это разные имена и разные календарные события.
По Далю:
- АКСИНЬИ-ПОЛУХЛЕБНИЦЫ или ‑полузимницы, в народе, день 24 января. Половина зимних запасов съедена; прошла половина времени от старого до нового хлеба; озимое зерно пролежало половину срока до исхода. Цены на хлеб до нового устанавливаются. Какова Аксинья, такова и весна. Метель на полузимницу- корм подметает, корма будут плохи. Полузимница пополам, да не равно (делит зиму): к весне мужику тяжеле.
- АНИСЬИ-ЖЕЛУДОЧНИЦЫ, в народе, день 30 декабря. Варят свиную требуху, гадают о зиме, по черевам, по печени и селезенке.
Но юный люмпен об этом не знал.
Взаимообразные превращения происходят с именами других героев романа.
Пантелей Прокофьевич Мелехов:
С. 15: Дважды Иван Семенович (правка другими чернилами на «Пант. Прок.»). С. 17: Дважды Иван Семенович; «отец» (правка другими чернилами на «Пант. Прок.»). С. 18: Иван Семенович С. 21: Иван Семенович. С. 22: Иван Семенович. С. 23: Иван Семенович. С. 24: «дядя Иван» и дважды Иван Семенович.
С. 1: Мелехов Прокофий (отец Пантелея Прокофьевича): С. 4: трижды Пантелей, и уточняется, что он назван по деду (16/XI);
С. 4 (низ): дважды Иван Андреевич, но отчество зачеркнуто и теми же чернилами исправлено на «Семенович». С. 6: Иван Андреевич – исправлено теми же чернилами на «Семенович»; Иван Семенович. С. 7: Дважды Иван Семенович. С. 8: Дважды Иван Семенович. С. 29: дважды Иван Семенович. С. 30: пять раз Иван Семенович. С. 31: Иван Семенович. С. 32: дважды Иван Семенович. С. 33: пять раз Иван Семенович. С. 34: шесть раз Иван Семенович. С. 35: четырежды Иван Семенович. С. 50: Иван Семенович. С. 51: «Семеныч» и трижды Иван Семенович. С. 52: пять раз Иван Семенович. С. 53: четырежды Иван Семенович. С. 54: четырежды Иван Семенович. С. 60: дважды Иван Семенович.
С. 61 (после 28/XI): Пантелей.
С. 62: дважды Иван Семенович; с. 63: Иван Семенович шесть раз. С. 65: дважды Иван Семенович. С. 66: пять раз Иван Семенович. С. 67: дважды Иван Семенович.
С. 69: «односум Прокофья Мелехова» (дед Гришака). С. 70. «покойный Прокофий». С. 73: Пантелей Прокофьевич. С. 77. Пантелей Прокофьевич. С. 81: дважды: «Пантелей Григорьевич» (описка, надо: Прокофьевич). С. 83: Пантелей Прокофьевич.
Итак, смена имени Пантелей Прокофьевич/Иван Семенович происходит пять раз (если расставить листы рукописи по шолоховской хронологии). Последовательность этой смены (по эпизодам, пластами) показывает, что перед нами не случайность и не путаница забывчивого автора, а механический свод разных редакций протографа.
Мирон Григорьевич Коршунов:
С. 52: Игнат Федорович. С. 54: Игнат Федорович (на тех же страницах с Иваном Семеновичем)
С. 64: дважды Федор Игнатьевич (здесь же Иван Семенович).
С. 69: здесь дед Гришака назван односумом Прокофия Мелехова. Доживает у сына. Но тогда почему на с. 64 Федор Игнатьевич, а не Григорьевич? Описка?
С. 76: Федор Григорьевич
С. 80, 81, 83: Мирон Григорьевич (здесь же на с. 81 и 83 Пантелей Прокофьевич).
Ясно, что все это механически сведенные в один квазитекст варианты из разных черновых редакций протографа. И ясно, что автор – не Шолохов, поскольку с авторской пагинацией (датами), аккуратно, буквально по дням проставленной на полях в первой половине этой тетрадки, вся эта чересполосица никак не связана. Значит, даты даны исключительно ради оправдания подлога, спешно изготовленного для рапповской комиссии по плагиату. Использованы были вперемежку и разные черновые редакции, и беловые варианты протографа. В начальном черновом варианте читалось «Анисья» или «А.», в более поздних «Аксинья» и также «А.». (В рукописях Крюков именно так, до одной буквы сокращал имена своих героев.) Но имитатор этого не понял.
Мартын Шумилин (дважды Шумилин МартЫн – 3/5);) в печатном тексте превратится в МартИна. В нормальном русском (а не западноевропейском) варианте это имя встречаем так и в других «черновых» вариантах, см., к примеру, на с. 25 рукописей второй части; так и на с. 8 «перебеленной рукописи 1927 года», и на с. 8 «беловой рукописи». Это говорит о том, что машинописная перепечатка для журнального набора (или, возможно, сам набор) производилась не с дошедшего до нас шолоховского, а с какого-то иного текста. Впрочем, в «черновиках» четвертой части: «Шумилин Мартиин» (4/19) и трижды «Мартин» (4/31); «Мартин Шамиль» (4/102).
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ УМОЗАКЛЮЧЕНИЯ
Вышеприведенного достаточно для следующих выводов:
- Опубликованная рукопись Шолохова написана малограмотным человеком, у которого практически нет читательского опыта. При этом текст романа содержит реминисценции из «Слова о полку Игореве», «Повести временных лет» и малоизвестной широкому читателю «Иоакимовской летописи», цитаты из Льва Толстого и Блока, ссылки на роман Мережковского «Петр и Алексей» (1902 г.) и «Записки врача» Вересаева (1901 г.), полемику с пушкинскими строками («темный шпиль адмиралтейской башни»; ТД: 4, XI, 112) и т. д. Но нельзя цитировать того, что не прочел и спорить с тем, чего никогда не видел (ту же адмиралтейскую иглу или Невский проспект).
- Рукою Шолохова созданы не «черновики» и даже не перечерненные беловики, а их имитация, выполненная на очень низком, практически детском уровне. Перепечатка для журнального набора делалась не с этих рукописей, а с какого-то другого оригинала романа (о чем говорят многочисленные расхождения текстов), в первых своих частях написанного в старой орфографии.
- Рукописи содержат многочисленные рудименты дореволюционной орфографии, то есть копировались с рукописи, написанной с ятями, конечными ерами, «i», церковнославянскими написаниями (типа «у нея»). Перед нами «малограмотная копия с грамотного оригинала», текст которой не десятки, а многие сотни раз уличает копииста-мистификатора. (Подробнее см. А. Чернов. СтрЯмя «Тихого Дона». Заметки текстолога. (Три статьи о Фёдоре Крюкове и Михаиле Шолохове в сб. «Загадки и тайны „Тихого Дона“: Двенадцать лет поисков и находок». М., АИРО-XXI. 2010).
- Переписчик во множестве случаев не понял смысла текста и исказил его.
- При переписывании чужого текста Шолохов попытался расшифровать и превратить черновик, местами многоуровневый, в гладкий и последовательный текст. Эта задача вряд ли была бы выполнима, если б оригинал не был уже перечерненным беловиком (с частичной разноуровневой правкой). Но именно в местах такой правки появлялись нелепости, свидетельствующие о поверхностном понимании писцом копируемого текста. Ряд исправленных теми же орешковыми или красными чернилами наиболее явных языковых нелепиц говорит о том, что у Шолохова был и свой (относительно грамотный) правщик, который исправлял орфографические ошибки (поверх «а», к примеру, писал «о»), убирал повторения написанных друг за другом одинаковых слов (см., например, «приподнять» на с. 7 «черновиков» первой части романа).
- Надо полагать, рукопись Шолохова была спешно изготовлена в начале 1929 года для рапповской комиссии, которая должна была ответить на многочисленные обвинения в плагиате, прозвучавшие сразу после выхода первых частей романа в журнале «Октябрь». Физически для изготовления по чужим черновикам рукописи такого объема и такой степени неряшливости потребуется от двух-трех недель до двух-трех месяцев. Впрочем, у него были помоганцы: жена Мария и ее сестра (школьные учительницы) и их брат Иван Громославсий (школьный учитель).
- Михаил Шолохов «Тихого Дона» не писал.
Иван Петрович Громославский (1900–1980) – старший брат Марии Петровны Шолоховой. Миллеровский инспектор окружного отдела народного образования Михаил Обухов, друг и однокурсник по университету Владимира Шолохова (мужа Анны Громославской, сестры шолоховской жены) вспоминал:
«Я знал очень хорошо всю семью Шолохова, родственников его жены: отца, мать, сестер, брата. Работая инспектором окроно в Миллерове (тогда еще были округа), я почти каждую неделю бывал в Вешенской по делам службы. Часто приходилось останавливаться на ночь. Ночевал я обычно у Шолоховых /…/ В конце лета (неясно, 1928 или 1930 г.) Шолохов приехал ко мне в окроно и попросил: «Устрой в какую-нибудь школу учителем брата моей жены, Ивана, он грамотный: окончил шесть классов гимназии»… Брат этот в то время работал на него. Шолохов мне так сказал: «Устрой, мне нужно отблагодарить его. Он переписал мне первые две книги «Тихого Дона». (Каргина И.Б. Букет бессмертников. Константин Каргин и Михаил Шолохов: неизвестные страницы творческой биографии. – М.: АИРО–ХХI. 2007. С. 10–106).
По информации с сайта Шолоховского музея http://www.sholokhov.ru/museum/collection/doc/718/
Иван Громославский с 1917 по 1919 гг. учился в Донской духовной семинарии Новочеркасска. С 1920 г. был совслужащим. С 1928 по 1931 гг. учительствовал в начальной школе хутора Черновский Вёшенского района. С 1939 по 1942 гг. был директором школы в Черновском. В послевоенные годы работал заведующим Райфо Вёшенского района». (Сердечно благодарю за эту бесценную информацию исследователя Георгия Малахова!)
Вот мы и узнали, кто в 1927-м готовил в Вешенской роман к печати, переписывая крюковские рукописи по новой орфографии. Изготовленная им рукопись после была перепечатана там же в Вешенской местной машинисткой и к осени отправлена в Москву Серафимовичу. Там текст правился уже по-взрослому, всерьез.
Но самой главной тайной «черновиков» Шолохова (то есть подделки черновиков и беловиков, изготовленных семейством Громославских в 1929 году) было то, что их никогда и никому нельзя было показывать. И Шолохов это понимал лучше, чем шолоховеды. (Видимо, ему это объяснили в том же в 1929-м.) Поэтому осенью 1941-го он проигнорировал отчаянные призывы из действующей армии своего друга Василия Кудашева: «Вызови меня в Москву, я должен передать тебе рукописи “Тихого Дона”». И даже после обвинений в плагиате, выдвинутых Ириной Медведевой-Томашевской, он, прекрасно зная, где и у кого находятся его «рукописи», даже не посмотрел в сторону маленькой московской квартирки, в которой жила вдова бывшего его друга. («Что же мне с ними делать?» «А делай, что хочешь».)
ГОРОДОК ЧИГОНАКИ И СТАНИЦА ГЛАЗУНОВСКАЯ
И оказывается, что автор – вовсе не Шолохов.
Вот объяснение в тексте того, как родилась станица Вешенская:
«…Казаки “воровского” городка Чигонаки, угнездившегося в верховьях Дона, неподалеку от устья Хопра» (ТД: 2 , I, 113). Где Хопер, а где Вешенская? И где тогда хутор Татарский?
Ну, и при чем тут Шолохов, родившийся на хуторе Кружилин, который относится к Вешенскому юрту, но много южнее Вешек?
В первой редакции романа Крюков описывал Усть-Хоперское восстание, которое поднял Голубинцев (а Крюков деятельно ему помогал). Это 1918 год. А во второй перенес хутор в Вешенский юрт. Потому что началось Вешенское восстание. Это 1919 год. Это уже после самого Шолохова поселили в Вешках. Для правдоподобия. Ну и текст отредактировали. Но не заметили швов.
Продолжение темы в заметке Георгия Малахова:
http://wp.me/p2IpKD-2if
Глазуновская станица мелькает в романе трижды. Дважды во второй книге и один раз в третьей:
I
Листницкий с радостью принял перевод. В этот же день он выехал в Двинск, где находился 14-й полк, а через сутки уже представился командиру полка, полковнику Быкадорову, и с удовлетворением осознал правдивость слов начштаба дивизии: офицеры в большинстве – монархисты; казаки, на треть разбавленные старообрядцами Усть-Хоперской, Кумылженской, Глазуновской и других станиц, были настроены отнюдь не революционно, на верность Временному правительству присягали неохотно (ТД: 4, Х, 99).
II
Подтелков укорачивал стоянки и ночевки. Сжигаемый беспокойством, он стремился вперед. Накануне вступления в юрт Краснокутской станицы он долго разговаривал с Лагутиным, делился мыслями:
– Нам, Иван, далеко идтить не след. Вот достигнем Усть-Хоперской станицы, зачнем ворочать дела! Объявим набор, жалованья рублей по сотне кинем, но чтоб шли с конями и со справой, нечего народными денежками сорить. Из Усть-Хопра так и гребанемся вверх: через твою Букановскую, Слащевскую, Федосеевскую, Кумылженскую, Глазуновскую, Скуришенскую. Пока до Михайловки дойдем – дивизия! Наберем?
–Набрать –наберем, коли там все мирно.
– Ты уж думаешь, и там началось?
– А почем знать? – Лагутин гладил скудную бороденку, тонким жалующимся голосом говорил:
– Припозднились мы… Боюсь я, Федя, что не успеем. Офицерье свое дело там делает. Поспешать надо бы (ТД: 5, XXVII, 366–367).
III
На севере станица Усть-Медведицкая гуляла из рук в руки: занимал отряд казаков-красноармейцев, стекшихся с хуторов Глазуновской, Ново-Александровской, Кумылженской, Скуришенской и других станиц, а через час выбивал его отряд белых партизан офицера Алексеева, и по улицам мелькали шинели гимназистов, реалистов, семинаристов, составлявших кадры отряда.
На север из станицы в станицу перекатами валили верхнедонские казаки. Красные уходили к границам Саратовской губернии. Почти весь Хоперский округ был оставлен ими. К концу лета Донская армия, сбитая из казаков всех возрастов, способных носить оружие, стала на границах. Реорганизованная по пути, пополненная прибывшими из Новочеркасска офицерами, армия обретала подобие подлинной армии: малочисленные, выставленные станицами, дружины сливались; восстанавливались прежние регулярные полки с прежним, уцелевшим от германской войны, составом; полки сбивались в дивизии; в штабах хорунжих заменили матерые полковники; исподволь менялся и начальствующий состав.
К концу лета боевые единицы, скомпонованные из сотен мигулинских, мешковских, казанских и шумилинских казаков, по приказу генерал-майора Алферова перешли донскую границу и, заняв Донецкое — первую на рубеже слободу Воронежской губернии, повели осаду уездного города Богучара.(ТД: 6, II, 20).
Замечательна вторая выписка, особенно слова большевика Лагутина: «Припозднились мы… Боюсь я, Федя, что не успеем. Офицерье свое дело там делает. Поспешать надо бы».
Действительно, именно в это время «офицерье» (командир полка Голубинцев и его друг Федор Крюков) готовят в Усть-Хоперской и в Глазуновской первое на Дону восстание против большевиков. Александр Васильевич Голубинцев вспоминал о том, как вызревало восстание в Усть-Хоперской. Он пишет: «В первой половине июня (1918) решено было атаковать Михайловку…» То есть планы большевиков Лагутина и Подтелкова идти от Усть-Хоперской через Глазуновку на Михайловку – это на самом деле лишь романное эхо плана Голубинцева и Крюкова.
КАКОЙ НАЦИОНАЛЬНОСТИ БАБКА БРАТЬЕВ МЕЛЕХОВЫХ?
В первоиздании читаем: «В последнюю турецкую кампанию вернулся в хутор казак Мелехов Прокофий». Так и во всех трех шолоховских рукописях. Но последняя турецкая кампания – это 1877–78 год. Пантелей Прокофьевич не мог появиться на свет в конце 70-х, ведь Петр, старший его сын, родится уже в конце 80-х, а Григорий (он на шесть лет младше брата) – в середине 90-х.
Обнаружив ошибку, редакторы поправят: «В предпоследнюю турецкую кампанию вернулся в хутор казак Мелехов Прокофий». И уберут из текста два упоминания про то, что семидесятилетний дед Гришака был односумом Прокофия.
Зря убрали. Но и не убрать было нельзя.
С Турцией воевали и в Крымскую (предпоследнюю!) кампанию 1854–56 гг. Деду Гришаке 69 лет. Значит, он рожден в 1843-м. Его односум Прокофий тогда же. Но Прокофий не мог вернуться с Крымской войны и в 1857-м (в четырнадцать-то лет!) родить от турчанки Пантелея.
Можно предположить, что возраст дряхлого деда Гришаки редакторами уменьшен. Ему не 69, а 79.
Итак, ни «последняя», ни «предпоследняя» турецкие кампании ни при чем.
На какой войне Прокофий Мелехов, дед Гришки и Петра, добыл себе жену, названную в опубликованном тексте «Тихого Дона» турчанкой? И почему автору или редакторам пришлось срочно (и столь нелепо!) менять одну турецкую войну на другую?
Мой московский корреспондент Инга Кулешова пишет:
«А что, если бабка не была никакой турчанкой? И привезли ее не с турецкой, а с Кавказской войны? Тогда возрастная несуразица преодолевается. Женщины Кавказа тоже носили шаровары. И потом по сюжету озверелые станичники избивают несчастную до смерти. То есть русские, руководимые националистическими взглядами, убивают хрупкую женщину кавказской национальности. Это же не в советском каноне. Лучше уж быть ей какой-нить всем чуждой разинской «персиянкою». Вуаля, следы советской эстетической редактуры. Война на Кавказе шла более полувека, название ей как «Кавказская» было придумано позже. Черкесская компания была самой последней. До нее были военные действия в Дагестане, Чечне, Кабарде… Причем эта расправа с адыгами была самой ужасной и некрасивой в истории этой захватнической войны, потому как эти народы были вытеснены со своих территорий и даже отправлены в Турцию. А это еще один идеологический резон поменять национальность Мелеховской бабки».
Инга права. В середине второй части есть такой диалог:
— Вот, папа, кучер, которого я вам рекомендую,— парень из хорошей семьи.
— Чей это? — бухнул старик раскатом гудящего голоса.
— Мелехов.
— Которого Мелехова?
— Пантелея Мелехова сын.
— Прокофия знаю, сослуживец, Пантелея знаю. Хромой такой, из черкесов?
— Так точно, хромой,— тянулся Григорий струною.
Он помнил рассказы отца об отставном генерале Листницком — герое русско-турецкой войны.
А вот Петр Мелехов говорит про брата:
«Потемневший Петро держал под уздцы взволнованных криком лошадей, ругался:
— Убить бы мог, сволочь!
— И убил бы!
— Дурак ты! Черт бешеный! Вот в батину породу выродился, истованный черкесюка!»
Вот и дед Гришака роняет про депортацию черкесов: «…бывало, займем черкесский аул…»
Так что прозвище братьев Мелеховых было не «Турки», а «Черкесы». И в оригинале мы бы прочитали: «В последнюю кавказскую кампанию вернулся в хутор казак Мелехов Прокофий».
У черкесов (Адыгов) эта война называется «Урыс-Адыгэ зауэ», буквально: «Русско-Черкесская война».
Наворотив в первом издании цензурной правки, редакторы несколько десятилетий пытались свести концы с концами.
Увы, не свелось.
Как и «черновики» романа, январская книжка журнала «Октябрь» за 1928 год кричит о плагиате.
…Вот и в «Гулебщиках», раннем рассказе Федора Крюкова, казачка Дунька насмехается над нелепым и нелюбым главным героем: «– Филюшка, валяй! жену себе у черкесов добудешь!»
.
И ниже: «…А Филипп так и зашипел довольным смехом, забыв и оскорбление, и все невзгоды. Он, действительно, мечтал захватить и увезти какую-нибудь черноокую черкешенку, как увозили другие казаки очень часто в то время; увезти и жениться на ней, и жить да поживать с хозяйкой… Вот бы доброта-то была! Пусть тогда досада берет станичных девок на черкешенку, а он будет ее беречь и любить вместе с мамушкой».
Кстати, шаровары и впрямь входили в костюм знатной черкешенки:
http://www.kulturologia.ru/blogs/191015/26779/
КАК ЗВАЛИ ХУТОР МЕЛЕХОВЫХ?
Фрагмент очерка Ф. Крюкова «Мельком». 1914
В романе хутор Мелеховых назван Татарским, а обитатели Татарского зовутся «татарцы».
В первой книге этого слова, впрочем, нет, а во второй оно мелькает лишь однажды (ТД: 4, VIII, 90). Зато в третьей встречается десять раз, а в четвертой – тринадцать. И все бы хорошо (дело на Дону, а, значит, речь вроде как про пограничный казачий хутор), когда б не упоминание в тексте о «сотне татарских казаков» (ТД: 6, II, 20), «татарских казаках» (ТД: 6, XIII, 114), «татарской пехоте» (ТД: 6, XXXII, 210; ТД: 6, XLVI, 293), «татарских пластунах» (ТД: 6, XLVI, 290; ТД: 6, LIX, 378), «сотне татарских пластунов» (ТД: 6, LXIII, 413), «пешей сотне татарцев» (ТД: 6, XLVI, 290; ТД: 6, LVI, 358; ТД: 6, LVI, 363).
Но особенно комично выглядит такое: «Отряд татарских казаков под командой хорунжего Петра Мелехова…» (ТД: 5, XXX, 386).
И как в этом контексте прикажете понимать фразу про казака с «татарским энергичным лицом» (ТД: 6, VIII, 85) и слова «Молитвы от огня», где речь идет, в частности, о «татарском супостате» (ТД: 3, VI, 278)?
При этом: Татарский конный полк – один из полков Кавказской туземной конной дивизии, сформированный из этнических азербайджанцев. 23 августа 1914 года его командиром был назначен генерал-лейтенант Пётр Александрович Половцов.
Светлана и Андрей Макаровы предположили, что хутор Мелеховых (в протографе первоначально была станица) у подлинного автора назывался не Татарским, а Татарниковским (Макаров А.Г., Макарова С.Э. Цветок–Татарник. В поисках автора “Тихого Дона”: от Михаила Шолохова к Федору Крюкову. М., 2001). Эпиграфом к своей работе авторы взяли такой текст:
«…Куст “татарина” состоял из трех отростков. Один был оторван, и, как отрубленная рука, торчал остаток ветки. На других двух было на каждом по цветку. Цветки эти когда-то были красные, теперь же были черные. Один стебель был сломан, и половина его, с грязным цветком на конце, висела книзу; другой, хотя и вымазанный черноземной грязью, все еще торчал кверху. Видно было, что весь кустик был переехан колесом и уже после поднялся и потому стоял боком, но все-таки стоял. Точно вырвали у него кусок тела, вывернули внутренности, оторвали руку, выкололи глаз. Но он все стоит и не сдается человеку, уничтожившему всех его братий кругом его… (Лев Толстой. Хаджи-Мурат).
Для Льва Толстого пунцовый цветок «татарина» (татарника) – не просто цветок. Это символ человеческой несгибаемости:
«Я набрал большой букет разных цветов и шел домой, когда заметил в канаве чудный малиновый, в полном цвету, репей того сорта, который у нас называется “татарином” и который старательно окашивают, а когда он нечаянно скошен, из сена покосники, чтобы не колоть на него рук. Мне вздумалось сорвать этот репей и положить его в середину букета. Я слез в канаву и, согнав впившегося в середину цветка и сладко и вяло заснувшего там мохнатого шмеля, принялся срывать цветок. Но это было очень трудно: мало того что стебель кололся со всех сторон, даже через платок, которым я завернул руку, – он был так страшно крепок, что я бился с ним минут пять, по одному разрывая волокна. Когда я, наконец, оторвал цветок, стебель уже был весь в лохмотьях, да и цветок уже не казался так свеж и красив. Кроме того, он по своей грубости и аляповатости не подходил к нежным цветам букета. Я пожалел, что напрасно погубил цветок, который был хорош в своем месте, и бросил его. Какая, однако, энергия и сила жизни, – подумал я, вспоминая те усилия, с которыми я отрывал цветок. – Как он усиленно защищал и дорого продал свою жизнь».
Справка:
Татарник – название многих сорных колючих растений (Onopordon, Cirsium, Carcduus, Lappa и Xanlhium), чьи плоды цепляются за шкуры зверей и одежду людей. Другие имена – татарин, репейник, репей, репьяк, лопух, пустотел, бодяк, дедовник, волчец, осот, чертополох, мордвин, лапушник, чертополох. Считается, что татарник назван так за свою неприхотливость и умение жить в засушливых степях. У него крепкий колючий стебель, достигающий 2,5 м. высоты, колючие зубчатые по краю листья и красивые соцветия корзинки с нежными трубчатыми, лиловато-сиреневыми цветами, и нежным запахом. В народной медицине отвар татарника используют, в частности, для промывания ран.
…Может быть, пора промыть крюковским татарником рану, которая была нанесена русской культуре еще в 1920-х?
Макаровы обратили внимание на строки из очерка другого русского писателя: «Необоримым Цветком-Татарником мыслю я и родное свое Казачество, не приникшее к пыли и праху придорожному, в безжизненном просторе распятой родины…» (Ф. Крюков. «Цветок-Татарник». – Донская речь, 12 / 25 ноября 1919 г.).
Итак, если в начальном тексте была станица, то Татарниковская, если хутор, то Татарников (или Татарниковский). Или так, как однажды в романе говорят казачки о близлежащем кургане: Татаровский.
Логика развития текста свидетельствует, что московские исследователи правы.
Советские редакторы не заметили, что в романе имя хутора появляется далеко не сразу. Сначала речь о каком-то «Татарском кургане»:
«Ребятишки, пасшие за прогоном телят, рассказывали, будто видели они, как Прокофий вечерами, когда вянут зори, на руках носил жену до Татарского, ажник, кургана» (ТД: 1, I, 10).
Потом следует весьма красноречивая и символическая сцена, в которой уже узнавший про измену жены Степан Астахов рубит плетью бутоны татарника:
«Степан шел возле брички, плетью сбивая пунцовые головки придорожного татарника» (ТД: 1, XIII, 62).
И вновь о кургане, названном тут почему-то ТатарОвским:
«– Климовна! Надбеги, скажи Пантелею-турку, что ихние ребята возля Татаровского кургана вилами попоролись…» (ТД: 1, XVII, 84).
По логике опубликованного текста вроде бы должно быть «возле Татарского кургана», но переписчик, переименовав курган (вырыв имени дыру в две или три буквы), по недосмотру сохранил часть суффикса «ов»: Татаровского. (Так черные археологи, снося дивинец кургана или сопки, обязательно пропустят какие-то артефакты.)
Обратим внимание на то, что название хутора в романе еще не прозвучало. Выходит, курган назван по цветку, а хутор – по кургану.
И только много позже мы услышим такой диалог казака Федота Бодовскова и большевика с латышскими (по первым изданиям – немецкими) корнями, слесаря Иосифа Штокмана:
«– А с какого будете хутора?
– С Татарского.
Чужой человек достал из бокового кармана серебряный, с лодочкой на крышке, портсигар; угощая Федота папироской, продолжал расспросы:
– Большой ваш хутор?
– Спасибочко, покурил. Хутор-то наш? Здоровый хутор. Никак, дворов триста.
– Церковь есть?
– А как же, есть.
– Кузнецы есть?
– Ковали, то есть? Есть и ковали.
(ТД: 1, IV, 135–136).
Это первое в тексте (меж тем страница уже 136!) упоминание имени хутора.
Обратим внимание на прозвучавшую здесь же характеристику хутора. Вроде бы ничего особенного… Но вслушаемся: «Здоровый хутор. НИКак, дворОВ ТРисТА». Это анаграмма, а в ней как раз те фонемы, которые с корнем, как сорный цвет, цвет казачьей чести и непокоренности, вырвет Шолохов из имени мятежного хутора. Вырвет, не заметив, что аллитерационная организация этого фрагмента доведена автором до пластики если не скороговорки, то моностиха:
Хутор Татарниковский – никак дворов триста
Невинный на первый взгляд придорожный диалог казака Федота Бодовскова и Штокмана наполнен зарницами грядущего противоборства. Штокман, человек-шток, человек-древко, «враг народа», если вспомнить название пьесы Ибсена, из которой заимствована и сама фамилия Штокман, черный человек, носящий имя Сталина и отчество Троцкого (с 1918 года тот и другой грабят южнорусские области, останавливают белых и казаков под Царицыным, а потом начинают расказачивание), интересуется, велик ли хутор, есть ли церковь, кузница, слесарные мастерские…
За каждым вопросом – мощный мифологический, а, значит, и поэтический пласт семантического чернозема. Федот Бодовсков чувствует («Вам чего надо-то?»), что незнакомец чем-то опасен. Хотя вряд ли понимает, чем именно. Понимает автор романа: упоминание о том, что дворов в Татарниковской станице именно триста – это такая же знаковая цифра, какой был для русских монархистов трехсотлетний юбилей Дома Романовых.
По той же художественной логике и поросшие татарником седые курганы – не просто приметы степного пейзажа, а символы казачьей доблести и славы.
Татарник не часто упоминается в романе. Зато так:
«…волк вышел на чистое и, выгадав с сотню саженей, шибко шел под гору в суходол, сплошь залохматевший одичалой давнишней зарослью бурьяна и сухого татарника» (ТД: 2, XVII, 203).
Сравним у Крюкова в очерке «Шквал»: «…сплошной загон бурьяна или татарника».
Пунцовые непокорные соцветья срублены. Бурьян и сухой татарник – это те же библейские «крапива и репейник». Вот что говорит пророк Исаия там, где речь о суде над отпавшими от Бога народами и об участи земли, забывшей о Боге: «И зарастут дворцы ее колючими растениями, крапивою и репейником – твердыни ее…» (Исаия: гл. 34, стих 13).
Это единственное место во всей Библии, где крапива и репейник упомянуты вместе.
Но вернемся к фонетике: чтобы у читателя не возникло ощущение натяжки (мол, подумаешь, это случайность!), процитируем еще раз первое упоминание о Татарниковском кургане:
«Ребятишки… рассказывали, будто видели оНИ, Как Прокофий вечерами, когда вянут зори, на руках носил жену до Татарского, ажНИК, кургана» (ТД: 1, I, 10).
Тройная (по канону фольклорного заговора) аллитерация позволяет восстановить начальное имя хутора Мелеховых. Вспомним, что у Льва Толстого татарник зовется татарином (по Далю это два равноценных названия). Это значит, что и в варианте «хутор Татарский» речь также идет о непокорном цветке. Но все-таки в «Тихом Доне» цветок дважды назван татарником, следовательно, хутор должен был называться или Татарников (близ Ростова на Дону и сегодня есть хутор с созвучным именем – Татников), или, что, вероятней, – Татарниковский. Именно такие окончания имеют верхнедонские хутора, расположенные по берегам Дона близ Базковской и Вешенской: Меркуловский, Альшанский, Белгородский, Громковский, Калининский, Рыбинский, Рубежинский, Плешаковский, Еланский… Матвеевский. Хуторяне Татарниковского – татарниковцы. А потому и Петро Мелехов командовал не татарской, а татарниковской сотней.
Культ цветка-татарника начался у Крюкова еще до прочтения «Хаджи-Мурата», где цветок-татарин (так зовут его туляки) – символ земной, корневой крепости человеческого духа:
«Чуть маячили темные силуэты крупных сорных трав – татарника и белены» («Жажда». 1908).
«Застилал ли глаза пот, или это всегда так, но при всем усилии расчленить эту плотную массу, рассмотреть отдельные лица, угадать по движению губ, по выражению глаз зачинщиков и нарушителей он не видел ничего, кроме странной чешуи из голов, однообразной сети пятен телесного цвета, многих глаз, сцепивших его своими лучами отовсюду, и противно-мокрые, слипшиеся волосы. Точно сплошной загон бурьяна или татарника, сорной, густо пахнущей, волосатой травы. И казалась она то близко, – чувствовалось даже шумное, тяжелое, отдающее терпким потом дыхание ее, – то уходила вдаль и сливалась в сетчатый, подвижный узор, в котором бродило и скрывалось что-то враждебное и загадочное» («Шквал». 1909):
В этот ряд встраиваются и «татаринские хуторяне» из крюковского очерка «Мельком» (1914). Однако в последние месяцы жизни писателя в его прозе происходит второе явление татарника. И уже со ссылкой на Льва Толстого.
«Буйные заросли перепутанных не кошенных трав, изумрудные атавы, гигантский татарник, лебеда и брица по червонным загонам хлеба, бирюзовые васильки. золотистый подсолнух и дойник…». («После красных гостей». Июль 1919).
«Достаточно ли крепки окажутся наши казацкие нервы в этой неравной борьбе «рукава с шубой», или пошатнутся они в какой-либо лавине испытаний – одно несомненно: органическая неспособность казачьей натуры приладить себя к атмосфере того социального опыта, который тов. Троцкому безвозбранно удалось проделать над Россией и который у нас на Дону напоролся на жизнестойкость и упорство цветка-“татарника”, – кто не помнит прекрасной интродукции к “Хаджи-Мурату” Льва Толстого? И как колючий, стойкий репей-татарник, растет и закаляется в тревогах и невзгодах боевой жизни будущий защитник Дона и матери России – босоногий, оборванный Панкратка, предпочитающий сидению в погребе с лягушками пыль станичной улицы и грохот канонады. И я вспоминаю прекрасный образ, который нашел великий писатель земли русской в «Хаджи-Мурате» для изображения жизнестойкой энергии и силы противодействия той девственной и глубокими корнями вошедшей в родимую землю человеческой породы, которая изумила и пленила его сердце беззаветной преданностью своей, – светок-татарник… Он один стоял среди взрытого, борожденного поля, черного и унылого, один, обрубленный, изломанный, вымазанный черноземной грязью, все еще торчал кверху. “Видно было, что весь кустик был переехан колесом и уже после поднялся и потому стоял боком, но все-таки стоял, – точно вырвали у него кусок тела, вывернули внутренности, оторвали руку, выкололи глаза, но он все стоит и не сдается человеку, уничтожившему всех его братьев кругом его”… Необоримым цветком-татарником мыслю я и родное свое казачес¬тво, не приникшее к пыли и праху придорожному в безжизненном просторе распятой родины, отстоявшее свое право на достойную жизнь и ныне восстановляющее единую Россию, великое отечество мое, прекрасное и нелепое, постыдно-досадное и невыразимо дорогое и близкое сердцу» (Крюков. «Цветок-татарник». Ноябрь 1919).
И практически теми же словами:
«Есть у великого писателя земли русской, у Льва Толстого, один великолепный образ жизнестойкой энергии и силы противодействия истреблению: цветок-татарник – в интродукции к повести “Хаджи-Мурат”. Среди черного, унылого, безжизненного поля стоял он один, обрубленный, изломанный, вымазанный грязью. “Видно было, что весь кустик был переехан колесом и уже после поднялся и потому стоял боком, но все-таки стоял – точно вырвали у него кусок тела, вывернули внутренности, оторвали руку, выкололи глаза, но он все стоит, не сдается человеку, уничтожившему всех его братьев кругом него”. Необоримым цветком-татарником мыслится нам и родное казачество, и героическая Добровольческая армия, не приникшие к пыли и праху придорожному, когда по безжизненным просторам распятой родины покатилась колесница торжествующего смерда, созидавшего российско-филистимскую советскую республику» («Ответственность момента». Ноябрь–декабрь 1919).
Что же в «Тихом Доне»? Оказывается, что же самое. Еще раз перечитаем, но теперь уже подряд. Вот на первой же странице романа:
«С той поры редко видели его в хуторе, не бывал он и на майдане. Жил в своем курене, на отшибе у Дона, бирюком. Гутарили про него по хутору чудно’е. Ребятишки, пасшие за прогоном телят, рассказывали, будто видели они, как Прокофий вечерами, когда вянут зори, на руках носил жену до Татарского, ажник, кургана. Сажал ее там на макушке кургана, спиной к источенному столетиями ноздреватому камню, садился с ней рядом, и так подолгу глядели они в степь. Глядели до тех пор, пока истухала заря, а потом Прокофий кутал жену в зипун и на руках относил домой».
А вот Степан Астахов обдумывает измену своей жены и готовится к мести:
«Степан шел возле брички, плетью сбивая пунцовые головки придорожного татарника» (ТД: 1, XIII, 67).
Но татарник неистребим, как плодородие, как любовь и жажда жизни: «Быки шли охотно, и взбитая копытами пресная пыль на летнике подымалась и оседала на кустах придорожного татарника. Верхушки татарника с распустившимися малиновыми макушками пламенно сияли. Над ними кружились шмели» ТД: 7, XIV, 134).
И напомню, что драка Григория и Петра происходит тоже «возля Татаровского кургана» (ТД: 1, XVII, 84).
В сухих зарослях татарника находят прибежище волк ТД: 2, XVII, 203) и дикая «желто-бурая худая коза» с подростком-козленком (ТД: 5, XXII, 328).
Других упоминаний о татарнике в романе нет.
Продолжение этот сюжет получил после того, как москвич Савелий Рожков перевел в электронный вид один из забытых очерков Крюкова, вышедший в 1914 году в трех номерах «Русского Богатства» (№№ 7, 8, 9). Они свидетельствуют о том, что про непокорный хутор Татаровский написал не М. А. Шолохов, а автор того очерка. То есть Крюков.
Давний, забытый, пророческий текст. Написан и опубликован летом 1914 года:
«– Леса у нас были огромаднейшие! – с гордостью воскликнул он: – ну наши отцы-деды прожили. Сосняк был – в три обхвата!.. Ничего не осталось… Вот эту березовую рощицу последнюю доедаем…
– А как же дальше?
– А дальше как Бог даст… – сказал он ясным и беззаботным голосом: – соломкой будем как-нибудь обходиться… А уж палки взять негде будет…
Помолчал и прибавил:
– На три года положили не пахать — может, зарастет. А если ничего не выйдет – под распах!
И опять полное удовлетворение, даже удовольствие прозвучало в его голосе.
Как-то сразу сдунуло мечтательное, тургеневское. Встала рядом голая современность: исчезающая красота земли, опустошение природы, младенческая беззаботность о завтрашнем дне, фатальный уклон в сторону самоограбления».
Так и вышло: 1914 + 3 = 1917
Это очерк Ф. Д. Крюкова («Мельком». «Русское Богатство», 1914, № 7, С. 279–307, № 8, С. 184–207, № 9, С. 162–180).
Я полагал, что Крюков придумал «татаринских хуторян». Но все оказалось еще интересней. Московский филолог Михаил Михеев переслал мне письмо от исследователя Савелия Рожкова:
«По вопросу о «татаринских хуторянах». Нашлись такие. Прежде я изучал маршрут путешествия по 10-верстной карте Стрельбицкого – там в интересующем нас месте ничего похожего нет. А на 3-верстной нашлось. У К так названы хуторяне, живущие близ д. Татариновой – то ли выселившиеся из неё, то ли поселившиеся на земле этой деревни. Стояла деревня как раз между Болховым и Кривцово. На советской генштаб. карте её кстати тоже нет, хотя соседние Кривцово и Баргиново еще существуют. Прочие упомянутые в очерке топонимы тоже нашлись. Выдуманных названий здесь кажется нет совсем, все максимально документально (хотя некоторые имена искажены или переданы не так, как на карте). По этим ссылкам 5 карт, на которых изображен весь маршрут путешествия. Файлы закачаны на Яндекс.народ.ру. Листы расположены с юга на север в таком порядке: 17-14, 16-14, 15-14, 14-14, 13-14. На листе 17-14 Орел — начало маршрута, на листе 13-14 — Калуга. (1, 2, 3, 4, 5). Ниже даю краткую лоцию маршрута путешествия ялика «Энэс» от Орла до Калуги по р. Оке: Верх. и Ниж. Щекотихина и Костомарова – верх листа 17-14, чуть выше Орла. Плещеево, Касьяновка, Булановка – внизу листа 16–14. Ниже Булановки по течению, слева, впадает р. Неполодь. Еще ниже на левой же стороне Оки — Хрыки, и рядом с ним Паслово. С правой стороны, против Хрыков устье р. Оптухи (название дано на листе 17–-14) и через нее – железнодорожный мост. Далее – выше по листу и вниз по течению – примерно посередине листа обозначена д. Харичкова (Чижи), где делали привал в полдень второго дня. У верхнего края листа, справа по реке, где в Оку впадает река Зуша – Шашкино. По всей видимости это и есть крюковское – с. Спасское, оно же Сашкино. Кривцова (у Крюкова – Кривцово), где имение Лавровой – самый низ листа 15–14, слева по реке. А на листе 16–14, вверху слева, т.е. юго-западнее Кривцова – Болхов. Между ними на том же листе 16–14 – Багринова (ближе к Кривцову) а ближе к Болхову (вот она!) – Татаринова. Воронец – на листе 15–14, ниже Кривцова, с правой стороны реки, сразу за границей губернии, которая обозначена пунктиром. На листе 14–14, примерно в его середине, между Лихвином и Перемышлем – Андронова, Машковичи и монастырь Покровский Добрый. (Андропова нет и не должно быть, это я ошибся в расшифровке, а у Крюкова дважды упомянуто Андроново.) Лист 13–14, в левом нижнем углу, на левой стороне Оки, в устье Угры – Спаское (село Спас у Крюкова), а напротив, на правой стороне, по направлению к Калуге – Желыбина. Должно быть это и есть Шебалино. Крюков, видимо, записал на слух название, которое услышал с другого берега реки, отсюда и искажение».
Конец цитаты.
Итак, две вполне незаметные цитаты из этого никогда не переиздававшегося очерка оказались упоминанием о вполне реальном Татаринском хуторе. Правда, в первом случае эпитет почему-то взят в кавычки:
1. «Дальше! К „татаринским“ хуторянам – у тех, говорят, лучше, веселей, больше благоустройства и достатка» (№ 8, с. 202).
2. «Это – теперь, в медовый месяц молодой земельной эры. А что будете потом? Татаринские хуторяне поступают премудро, не заглядывая за темную грань будущего» (№ 8, с. 204).
Тема очерка – путешествие по Оке от Орла до Калуги на купленной по этому случаю и названной «Энэсом» лодке (НС, т. е. народные социалисты – политическая партия, одним из организаторов которой был Ф. Д. Крюков). Путешествовали втроем (двое старых друзей, один из которых прихватил и своего сына).
Цель поездки – хождение в народ и знакомство с жизнью реформируемой правительством деревни.
Что община? Как там ушедшие на отруба хуторяне? Эти, и еще более важные вопросы волнуют автора: «Кто обновит старые меха? когда? и как? Сохранится ли зерно здоровой, правильной жизни по-божьи? или погибнет? и станет человек человеку – кирпич?..»
Итак, татаринские хуторяне. Те, что живут «лучше, веселей, больше благоустройства и достатка» и «поступают премудро, не заглядывая за темную грань будущего».
Сопоставление с текстом «Тихого Дона» и толстовским «Хаджи-Муратом» показывает, что орловско-тульская деревня Татаринова (так!) и вышедшие из нее, чтобы поселиться поблизости татаринские хуторяне (единственные на всем протяжении Оки в Орловской, в Тульской и Калужской губерниях, кто сумел обустроить фермерское хозяйство), аукнулись сначала в «Тихом Доне», а потом в двух предсмертных очерках Федора Крюкова.
Путешествие Крюкова и его товарищей от Орла до Калуги имело место в конце мая 1914 года. Очерк «Мельком» пишется по горячим следам, и верстку автор правит уже в первые военные недели. Об этом говорит эпизод с дознанием, не шпионы ли наши путешественники:
«– Видите ли, я – староста. Ну, вот… сами знаете, небось читали в газетах, когда была война с Японией, как приезжали они в нашу землю планты снимать.
– Нет, мы – не японцы. Мы – австрийской короны…
Увы! Никто из нас не подозревал в то время, что через два месяца такая шутка едва ли сорвалась бы с языка. Староста удовлетворился нашим шутливым ответом. Мы прибавили, что „планты“ снимать нам нет надобности: мы купили готовые в магазине Главного Штаба. И развернули перед ним карту».
«Хаджи-Мурат» написан в 1904. Но его первая публикация тут: Посмертные художественные произведения Л. Н. Толстого / под ред. В. Г. Черткова. – Берлин: 1912. Т. 3.
Весной 1914 эта повесть только что прочитана, и не надо объяснять, почему в это время Крюков выдумал хутор с хаджи-муратским названием.
Толстовский символ человеческой несгибаемости, его «цветок-татарин», еще не стал казачьим «цветком-татарником». Но тут же, чуть ниже, на с. 207 читаем: «На четвертый день, к вечеру, достигли мы пределов Тульской губернии и ошвартовались у дер Воронца».
Тульская губерния для Крюкова, младшего современника и ученика Толстого, – это прежде всего Ясная Поляна (она как раз между Окой и Тулой). По Оке Крюков проплывает Лихвин (сегодняшний Чекалин). Это на 35 км восточнее Козельска («Как в кинематографе, торопливо и мимолетно проплыли перед нами маленькие уездные городки с звучными летописными именами») и на 77 км. западней Ясной Поляны. Напомню, что Толстой умер лишь три с половиной года назад.
В июне 1914 года Крюков возвращается в Петербург и пишет очерк о своем путешествии. Сдает его в печать в июле. Но «голубая пряжа июльских дней» разматывается вовсе не так, как обычно.
«Девятнадцатого июля вестовой полкового командира перед вечером успел шепнуть приятелю, казаку шестой сотни Мрыхину, дневалившему на конюшне:
– Война, дядя!» (ТД, кн. 1).
19 июля – это по русскому стилю. По европейскому календарю уже наступило 1 августа.
28 июля (15 по ст. стилю) Австро-Венгрия объявляет войну Сербии, а в первый день августа Германия – России. Эту войну современники поначалу воспринимали как Вторую Отечественную. Мирный, хозяйственный контекст убит самой действительностью, и на фоне грядущих сражений цитата из Толстого выглядит неуместной. Крюков, вычитывая корректуру в августе, изымает хаджи-муратскую реминисценцию из очерка. (К тому же образ несгибаемого цветка-татарина мог оказаться как нельзя кстати в случае трагического развития военный событий. Так в конце концов и оказалось, только уже в 19 году, под занавес другой войны, не империалистической, а гражданской).
Итак, благодаря редакторской спешке (эпизод вырезан, но два эха его остались) мы получили расписку от Крюкова: хутор Мелеховых – хутор Татаровский (Татаринский, Татарниковский). Но никак не Татарский. А хуторяне – татаровские, татаринские, татариновские, или татарниковские.
***
За семь десятилетий государство-преступник сумело подчистить и текст, и архивы, и свидетелей. Относилось оно к этому делу со всей серьезностью момента, поскольку «Тихий Дон» был первым проектом такого рода (далее таким же «цельнотянутым» проектом станут движение Стаханова, автомат Калашникова, две ядреных бомбы). Малограмотный люмпен и мелкий уголовник Шолохов не по своей воле оказался в орбите госпроекта: вещи писателя Ф. Д. Крюкова и рукопись его романа хранилась с 1920-го «после отступа казаков» и смерти автора на чердаке у Громославского, будущего тестя Шолохова (свидетельство Шахмагоновой, вдовы шолоховского секретаря). В 1923-м году Шолохов завербован московским чекистом Львом Мироновым (этот вскоре возглавит Экономическое управление ОГПУ) на роль лже-автора, «пролетарского гения» класса Льва Толстого. Четыре года из него «растили» писателя, стригли «рассказы» и «очерки» (видимо, из каких-то крюковских черновиков). А заодно и правили роман. Старый писатель Серафимович (друг и поклонник Федора Крюкова) стал редактором «Октября» только для того, что роман опубликовать. Пусть и в искореженном виде. Но когда первая часть романа вышла в серафимовичском «Октябре» (январь 1928), в ростовскую газету «Молот» пошли письма про то, что это рука Федора Крюкова. Известно и о других протестах. Все они указывали на подлинного автора. В 1929-м в дело вмешался Сталин. Спешно была создана рапповская комиссия по плагиату, для нее Шолохов с женой и ее сестрой изготовили несколько сотен страниц «черновиков» и «беловиков» (подлинник просто нельзя было показывать, он был «слишком крюковским»). В марте появилось письмо в «Правде», в котором протестанты были объявлены врагами советской власти. Кого убили, кого упрятали, кто и сам замолчал. Имя Крюкова было запрещено на всей территории Советского Союза. Но во время блокады литературовед Боцяновский (студенческий друг Крюкова), умирая от голода, открыл литературоведу Томашевскому, кто подлинный автор «Тихого Дона». Прошли десятилетия. При Хрущеве советское правительство продавило Шолохову нобелевскую премию (этим шведы загладили свою вину за присуждение премии «антисоветскому» Пастернаку). И все было хорошо, пока в Париже не появилась книжка «литературоведа D» с разоблачением плагиатора. Шолохов отреагировал инфарктом. И почему-то многослойная «легенда прикрытия» стала трещать и сыпаться. Этот процесс мы сегодня и наблюдаем. Вы спросите, где же подлинная рукопись?.. По моим сведениям, она сохранилась. В 90-х чекисты были не против того, чтобы ее рассекретить. Но, как было сказано напрямую: «Семья Шолоховых возражает».
ОТ РАЗИНА ДО СЕКАЧА
Ростовский историк Андрей Венков обратил внимание на такой шолоховский пассаж о казаках верхних округов: «…чинили самовольные набеги на великоросские земли и служили надежнейшим оплотом всем бунтарям, начиная с Разина и кончая Секачом» (ТД: 6, I, 9).
Помимо отряда «имени Степана Разина», сам прославленный бунтарь в романе поминается трижды:
1. «Мусолили три вечера. Про Пугачева, про вольное житье, про Стеньку Разина и Кондратия Булавина» (ТД, Кн. 1).
2. «– Нет, не поверю. А очень даже просто не поверю! Пугач из казаков? А Степан Разин? А Ермак Тимофеевич? То-то и оно! Все, какие беднеюшчий народ на царей подымали, – все из казаков» (ТД, Кн. 2).
3. «Только в 1918 году история окончательно разделила верховцев с низовцами. Но начало раздела намечалось еще сотни лет назад, когда менее зажиточные казаки северных округов, не имевшие ни тучных земель Приазовья, ни виноградников, ни богатых охотничьих и рыбных промыслов, временами откалывались от Черкасска, чинили самовольные набеги на великоросские земли и служили надежнейшим оплотом всем бунтарям, начиная с Разина и кончая Секачом» (ТД, Кн. 3).
Поскольку бунтовщика Секача ни русская, ни донская история не знают, а сам Шолохов уклонился от ответа, кто же этот безвестный народный герой (такой вопрос прозвучал из зала на одном из выступлений перед студентами), Венков предположил, что речь про «последнего донского бунтовщика» Фоку Сухорукова. Однако Фока не был самостоятельной фигурой, фольклорной памяти по себе не оставил, и «надежнейшим оплотом» Дон ему не стал. Да и до бунта в разинском его понимании дело не дошло – имело место неповиновение, самовольный уход казаков с «Кубанской линии», куда они были переселены по указу императрицы, и только. Сухоруков подвергнут был позорному наказанию (1793) не в одиночку, но с Трофимом Штугаревым, Саввою Садчиковым, Иваном Подливалиным и Дмитрием Поповым. Но руководил тем «бунтом» не Сухоруков, а уроженец Пятиизбянской станицы Белогорохов, который, впрочем, также не пытался поднять Дон, он предпочел отправились в Петербург с прошением к Екатерине II, где и был арестован…
Поэтому здесь имеется в виду, конечно, не некий неизвестный Секач, а Пугач – Емельян Пугачев. Просто почерк в подлиннике был не особенно разборчив, а самостоятельно продолжить третьим именем ряд «Разин – Булавин…» Шолохов не мог.
Окуда же взялся мифический Секач?
В письме, полученном мною 2 марта 2009 года Андрей Венков пишет:
«Я исхожу из того, что стоявшее в оригинале слово «Фокою» было написано с «Ф» в виде перечеркнутого в середке «О», а при скорописи оно похоже на «С». Из ошибок в географических терминах видны особенности скорописи оригинала, в частности «л» он (настоящий автор) писал, как «х», а «д», как «б», «хвостиком» вверх, «е» заваливал, оно походило на «о» И «Фокою» можно было прочитать как «Оокого», «Сокого», «Сокочо», а несколькими главами дальше Вёшенский полк ведет бой. И бои в июле Вёшенский полк вел у слободы Секачи. В романе этого нет, а в черновиках могло и быть. Это – догадка, допуск. Но «Пугача» прочитать как «Секача», которого никогда, кстати, не было, невозможно.Сожалею, но я не считаю автором Крюкова. Разговор на эту тему может быть долгим, но для начала укажу на то, что это имя еще в 20-е годы озвучил (намеком) Серафимович, а потом в 30-е годы признание, что Шолохов списывал у Крюкова, выбивали из местных казаков органы. А сами, судя по всему, Шолохову под расписку материалы (для копирования) давали и забирали».
Конец цитаты.
Если в распоряжении Шолохова был многоуровневый черновик, слобода Секачи и впрямь легко могла превратиться в имя мифического бунтаря. Историю Дона советские редакторы романа знали нетвердо. Иногородний, с тремя неполными классами образования, уголовник, а потом чекист Шолохов ее совсем не знал.
***
Зачем нужна копия, по которой текст невозможно опубликовать?
Затем, что, подлинник нельзя было показывать. Он был с ятями, ерами, «i»… Это видно из десятков неправильных прочтений.
Представляю, как матерились Фадеев с Серафимовичем, когда выяснилось, что и копию показать нельзя. Хотя она и имитирует подлинник.
Вообразим ситуацию начала 1929 года. Обвиненному в плагиате Шолохову дано время, чтобы срочно изготовить дубликат рукописи. (Вряд ли на это у него есть больше месяца.) Если он сам расшифровывал крюковский оригинал, и с этого делалась машинопись для журнального набора, то можно было бы представить в комиссию начальную копию. Но таковой не оказывается. Следовательно, или она была столь чудовищной, что ее нельзя было никому показывать (что Шолохову мог объяснить только Серафимович), и после сверки, правки и перепечатки ее уничтожили еще в 1927–28 годах, или шолоховской копии вообще не было, а перепечатка и типографский набор производились по адаптированной к новым орфографическим нормам копии, выполненной кем-то другим, к примеру, – самим Серафимовичем, чей «Железный поток» в ряде мест обнаруживает знакомство его автора с неопубликованным (а по официальной версии еще и не написанным) «Тихим Доном».
Если так, то в начале 1928 года Шолохову выдается крюковский оригинал, чтобы плагиатор изготовил фальшак – частично скопировал крюковскую рукопись (сколько успеет, но из разных частей романа). Причем сделать это надо максимально близко к тексту, поскольку гарантия неразоблачения имитатора – точное копирование, впрочем, с адаптацией к послереформенной орфографии.
Подтверждение такой версии в частичном копировании Шолоховым даже графики протографа: нет-нет, да и возникают в «черновиках» аномальный для Шолохова, но типичные для Крюкова написания строчных «б» как «з», два типа написания строчного «т», крюковские знаки изъятия тексте (квадратные скобки) и другие элементы типично крюковского оформления черновика (в частности, там, где надо изменить порядок слов в предложении – надстрочные арабские цифры с точками после них), а также рудименты старой орфографии.
При этом в распоряжении Шолохова и уже изданный текст романа, к которому он обращается в особо трудных случаях. Но обращается крайне нерегуляно, ему лень сверять фразу за фразой по двум источникам, да и времени для того нет.
«Черновики» полностью подтвердили мнение академика М. П. Алексеева (1896–1981), который общался с Шолоховым на заседаниях Отделения литературы и языка АН СССР: «Ничего Шолохов не мог написать, ничего!» (знаю от академика РАН Александра Лаврова, ученика Алексеева).
Впрочем, это было ясно и 80 лет назад. Физик Никита Алексеевич Толстой рассказывал мне, что его отец А. Н. Толстой сбежал из Москвы, когда ему предложили возглавить ту самую комиссию по плагиату. А дома на вопрос «Кто все же написал «Тихий Дон?», отвечал одно: «Ну уж, конечно, не Мишка!»
А кто?
Теперь, когда под руками электронный «Национальный корпус русского языка», мы можем ответить наверняка: все-таки Крюков.
И шолоховедам Шолохова уже не спасти, и другого автора «Тихому Дону» уже не навязать.
СВИДЕТЕЛЬСТВА МЕЖДОМЕТИЙ
Сотни диалектизмов (не только донских, но и орловских», к примеру, «красоваться» в значении ‘любоваться’) впервые явлены в «Тихом Доне».
Но, оказалось, что много раньше они были у Крюкова.
При этом повторяются даже ошибки крюковского написания: улеш (земляной пай) – он вообще-то улеж. (Просто в бытовой речи встречается преимущественно в именительном падеже, а потому на конце звучит неизменное «ш».)
Повторяются и способы передачи междометий.
Сравним:
| – Там уже подсказывают! – строго говорит Марек, стараясь покрыть гудящие голоса, – идите к кафедре!
– Гу-у… о-о-о… у-у-у… – слышится в ответ неопределенный гул. «Картинки из школьной жизни» |
– Господа старики!..
– Чего там! – В добрый час! – Гу-у-у-у-у!.. – Го-го-го-ооо!.. ТД: 2, VII, 150 |
| – Х-ха! – с досадой крякнул…
«Шквал» |
– … Больше-ви-ки… х-х-ха!
ТД: 4, XVII, 170 |
| – Х-хо-ты!..; – Эх-хо-хо…
«Шквал» гомерический хохот: – Го-го-го… Хо-хо-хо-хо… О-о-о… у-у-у!.. – застонало все кругом. «Новые дни» |
– Нет, это ты… х-х-хо-хо-хо!..
ТД: 6, LXIV, 420 – Го-го-го-ооо!.. ТД: 2, VII, 150 |
| – И-и, бабу не взяло…
«Офицерша» – И-и, милый… |
– И-и-и, дьявол дурной!..
ТД: 1, VIII, 47 – И-и-и, моя милушка… ТД: 1, XVIII, 92 |
| – У-у-у! бу-бу! – дружно и восторженно вторили выстрелу ребятишки…
«Станичники» |
У-у-у-ка-ка-ка-ка!.. – рвался хлопьями сплошной поток выстрелов. ТД: 4, IV, 60 |
| – Тю-у!.. Ска-зал!..
«К источнику исцелений» |
– Тю-у-у!.. ТД: 2, V, 144 – Тю-у-у!.. ТД: 3, X, 305 |
| – …Не боюся… ну-к што жа…
«Офицерша» |
– Ну-к что ж, большевики – большевиками, а в бога веруем…
ТД: 5, XXVIII, 374 |
| – А они: трррр… тррры!..залпами. «Группа Б.» | – …звяк шашек, приглушенное: «тррррр!» – Идут и к нам. (ТД: 6, XVII, 137)
Без параллели (см. слева) из контекста нельзя понять, что передает это «тррррр!». |
«– Эк—кххемм… жаль…» и «– Эк-к-ххеммм…» («Новые дни»). – «– Экхе-м» (ТД: 2, VII, 148); «– Наших кровей… Эк-гм… Ишь ты!..» (ТД: 2, XXI, 225).
Здесь передача междометия совпадает в последовательности пяти букв (в первом случае согласные просто удвоены): ЭК—КХХЕММ – ЭКХЕ-М. Совпадает и графика, предающая экспрессию:
«–Эт-то что за оратор тут?» («Тишь») – «– Эт-то можно» (ТД: 6, II, 24).; «– …ей-богу, женьитесь (так! – А. Ч.). Советую. Оч-чень хорошо!» («Новые дни») – «– Поднялся на ноги? Оч-чень хорошо! Анну мы забираем». – И догадливо-намекающе сощурился: – Ты не возражаешь? Не возражаешь? Да-да… Да-да, оч-чень хорошо!» (ТД: 5, XXVII, 299–300).
Прибавим и несколько десятков пересечений пословиц и поговорок (в большинстве случаев уникальных), цитат и реминисценций: истухающая заря; «гремит слава трубой»;«казак работает на быка, бык на казака»; «живем – быкам хвосты крутим»; в ироническом контексте: «дубовый крест заслужишь» (в ТД – «Ще один хрэст заробишь, гарный, дубовый…»); «гремит слава трубой»; «наше дело телячье – поел да в закут»; «как горох из мешка»; «как дождь осенью»; «плавать по-топоровому»; «замстило память»; «какъ ржа(ржавь) железо…»; «куга зеленая»; «огурцом телушку резали» и «шацкие – ребята хватские»; «ноги с пару сошлись»; «пьяней грязи»; «старый прижим» (впервые у Крюкова!); «рог с рогом»; «ряд рядом»; «подходи (в ТД – приходи) видаться!» (фиг подойдешь!); «сгребся и пошел» (в ТД – сгребся да ушел; в обоих случаях о казаке, уходящем из дома в отступ, то есть отступление); о том же: «уйтить не пришлось» (в ТД – уйтить вам не придется); «показать развязку» (удаль); «слово – олово!»; «поставить на постав» (о лошадях: устать до изнеможения); татарник (степной репей как символ несгибаемости и неукротимости жизни); «это – не сало, обомнется»; «Не стои!» (поведение на морозе); «Не шурши!» (кончай болтать) и т. д.
Реминисценции:
Из летописи: «–…Германец-то грозится ведь в Дону коней попоить!..» («Ратник») – «баварская конница поила лошадей в Дону» (ТД: 6, II, 19).
Из Евангелия: «– А Христос как говорил? “Взявши меч от меча и погибнет!» («Шаг на месте») – «А всякая власть – от Бога. Поднявший меч бранный от меча да погибнет. Истинно» (ТД: 6, XLVI, 298). В Евангелии от Матфея (гл. 26, ст. 51–52): «И вот, один из бывших с Иисусом, простерши руку, извлек меч свой и, ударив раба первосвященникова, отсек ему ухо. Тогда говорит ему Иисус: возврати меч твой в его место; ибо все, взявшие меч, мечем погибнут».
Из «Бориса Годунова»: «Казаки слушали и загадочно безмолвствовали» («Выборы на Дону») – «унизительное безмолвие толпы, молчанием провожавшей последнего императора…» (ТД: 4, X, 105).
Реминисценция из Чехова: «Тает недвижное белое облачко над горой, за крышей сарая, колким блеском сверкает под ним осколок лампадки, закинутый на сарай прокудливой ребячьей рукой» («Отец Нелид». 1913) – «Косо тянулась жемчужная – в лунном свете – пыль. В хате изжелта-синий, почти дневной свет. Искрится на камельке осколок зеркала, лишь в переднем углу темно и тускло отсвечивает посеребренный оклад иконы…» (ТД: 6, XXXVIII, 252). В обоих случаях это реплика на: «У него на плотине блестит горлышко разбитой бутылки ичернеет тень от мельничного колеса – вот и лунная ночь готова, а у меня и трепещущий свет, итихое мерцание звезд, и далекие звуки рояля, замирающие в тихом ароматном воздухе…» [А. П. Чехов. Чайка (1896)].
Совпадают десятки микросюжетов и житейских ситуаций. (Но это слишком большая тема, и здесь мы не будем ее трогать).
Даже дразнилки те же: дегтярь, мазница (о донских хохлах). И тот же возглас восхищения «Сукин кот!», и те же ругательства: «Стерва!» (о мужчине, а не о женщине); «– …Погоди, попадешься и ты когда-нибудь! Воряга!» («На Тихом Дону». 1898); «– А ты – чужбинник! Чужого понахватал, награбил…» («В углу». 1918) – «– Чужбинник! Б… старый! Воряга! Борону чужую украл!..» (ТД: 3, XIII, 273); «российский (в ТД – мужицкий) лапоть»; «–…Будь вы, мол, трижды анафемы!» («Будни») – «–…будь он трижды, анафема, проклят!..»(ТД: 7, XXVI, 266); «– Ах, вы, дьяволы паршивые…» («Казачка»); – «– Нарубил, дьявол паршивый…» (ТД: 1, XX, 99); проклятущий и т. д.
Скажут: ну, действительно, совпало… Шолохов ведь тоже рос на Дону.
Но «Тихий Дон» наполнен авторскими метафорами и фразеологизмами Крюкова. А это уже совпадением быть не может.
МЕЖДУ РЕБЕР АРБЫ
Вот лишь некоторые крюковские метафоры, откликнувшиеся в присвоенном Шолоховым романе:
– Арбуз как остриженная голова
– белый лопух головного убора
– старый коричневый бурьян (коричневый старюка-бурьян)
– диковины облаков и задумавшаяся курица
– дурнопьян с белыми цветами
– зеленый искрящийся свет луны (месяца)
– истухающая заря
– казаки как зипунные рыцари
– зубчатая спина облаков (туч)
– острая спина /речь о выступающем, пилообразном хребте/
– лицо как голенище сапога
– медовый запах цветов тыквы с огородов
– между рёбер арбы
– пологое солнце (месяц)
– проседь полыни
– пыльная багряная заря
– рассыпчатый смех
– черней чугуна
– срезанный месяц как горбушка хлеба (ломоть дыни)
– цепкая повитель с розовыми цветами переплела…
– шум на майдане начал притихать, он теперь походил на жужжание пчел в улье (майдан как пчельник полнился тихим шумом…)
Присмотримся внимательней: срезанный (в ТД – обрезанный) месяц (о неполной луне); ущербленный месяц (из-за которого рыба не клюет); зеленый искрящийся свет луны (месяца); заросшая камышом и кугой река; узкий усынок (заводь или мыс); зеленый свет луны (в ТД – месяца и зеленоватая стежка лунного света); диковины облаков и задумавшаяся курица; цепкая повитель с розовыми цветами; маленькая (в ТД – низенькая) фигурка казачки, похожая на куропатку; несуразно одетый человек, как чучело на бахче (в ТД – бахчевное чучело); измазанные дегтем ворота жалмерки; воробьи в куче хвороста;ребятишки, как стая (в ТД – туча) воробьев; кирпично-красное лицо; глянцевито-черный;подмывающий крик; бондарский конь (т. е. бочка); басистые (в ТД – басовитые) водяные быки (про выпь); проседь полыни (до Крюкова проседь – это только про волосы или бороду); головной убор как белый лопух; калмыцкий узел; острый (в ТД – хищный) скопчиный нос (скопчик – вид ястреба); чешуя реки (в ТД – волн); широкоспинный (о человеке); мигнуть бородой (в ТД – подолом); высморкаться в руку (в ТД – по-солдатски) и вытереть пальцы о полу шубы (в ТД – шинели); обирать (в ТД – обдирать) сосульки с бороды; в порыжевших (в ТД – порыжелых) сапогах; тело, как всхожее (и невсхожее) тесто; казаки – зипунные рыцари (в ТД – «зипунная броня» и «зипунный офицер»); прыгнул через дышло арбы (в ТД – тачанки); канунница, запах меда и лежалое платье; пули как горох; пули и снаряд как бурав; подплыть кровью; изрытое оспой лицо земли; острая спина (когда виден позвоночник); порыжевшие (в ТД – порыжелые) сапоги; сизый нос (в ТД – лицо) и усы с подусниками; лицо человека, как старая голенища (так! – А. Ч.) сапога (последний пример – находка московского исследователя Савелия Рожкова) и т. д.
Подробнее здесь:
До Крюкова никто не писал и так:
«Густой медовый запах шел от крупных золотых цветов тыквы с соседнего огорода» (Крюков. Повесть «Зыбь». 1909) – «…с огородов пахнуло медвяным запахом цветущей тыквы» (ТД: часть 6, LXI, 400).
И так тоже:
«– Польша бунтовалась, – там такая вша! – Ни пар ее не берет, ни мороз! Мы уж черными бутылками ее давили. Расстелешь на полу, где есть пол гладкий, да черной бутылкой и ведешь по овчине…» («Около войны») – «–…Давите их всех разом!» – «Как так?» – спрашивает. Я и посоветовал ей: «Сымите, – говорю, – одежку, расстелите на твердом месте, и бутылкой их». Гляжу: сгреблась моя генеральша и – за водокачку, гляжу: катает по рубахе бутылку зеленого стекла…» (ТД: 8, I, 300).
А вот редчайший глагол – запеснячить (запеть): «– А гораздо слышно? – с удивлением воскликнула она. – Ах ты. Господи!.. Я-то, я-то на старости лет в Спасовку запеснячиватьвздумала!.. Это все она меня, будь она неладна… “Давай да давай сыграем, скуку разгоним, никто не услышит”. Вот старая дура!.. – А хорошо пели! – с искренним восхищением отозвался Ермаков» (Крюков. «Казачка». 1896) – «– Это – не проводы. Еланские так играют. Это они та́к запеснячивают. А здорово, черти, тянут! – одобрительно отозвался Прохор…» (ТД: 7, XIX, 187)
Еще из уникального:
«развязал хитрые – калмыцкие – узлы тонких веревочных вожжей» («Весна-красна». 1913) – «С этого дня в калмыцкий узелок завязалась между Мелеховыми и Степаном Астаховым злоба». (ТД: 1, XIV, 70).
«…увязая ногами в тяжелой, кочковатой пашне» («Зыбь») – «…вихляя ногами покочковатой пахоте» (ТД: 3, VII, 296).
Или вот железнодорожная сценка:
«Опять прожурчала свистулька, и затем лязгнули какие-то железные сковороды, вагон вздрогнул, недовольно, как казалось Егорушке, по-стариковски, скрипнул, но сейчас же спохватился и, скрывая недовольство, засмеялся дребезжащим смехом: прр… фрр… прр… фрр… Маленькая станция с ее огоньками тихо поплыла назад в теплый сумрак летней ночи. Отец Егорушки, снявши картуз, стал часто креститься, а за компанию с ним осенил себя крестом два раза и батюшка – неторопливо и истово. Между тем в это время мимо вагона быстро пробежала водокачка, а за нею какие-то маленькие домики с светящимися окошками. Потом за окнами стало темно, и лишь мигали звезды над краем земли. А вагон теперь уже сам бежал с дребезжащим стуком и приговаривал: ох-хо-хо… ох-хо-хо… так-так… так-так…» («К источнику исцелений»).
Что такое эти железные сковороды? Подсказка в «Тихом Доне»:
«Спустя несколько минут паровоз рванул вагоны, лязгнули буфера, зацокотали копыта лошадей, потерявших от толчка равновесие. Состав поплыл мимо водокачки, мимо редких квадратиков освещенных окон и темных, за полотном, березовых куп» (ТД: 4, XV, 142).
Кража авторской образной системы доказывает кражу рукописи.
И десятки, сотни диалектизмов, которая русская литература не знала до Крюкова. Более половины из их мы находим и в «Тихом Доне». Но в «Большом донском словаре» 18 тысяч диалектизмов. Как же могли два писателя, взяв по тысяче, почти на две трети так угадать?
И такой вот набор народных словечек:
антилерица – антилерия; аполеты – еполеты; архирей; бонба; воряга; встрел (т. е. встретил); всурьез; дохтур – дохтор; ероплан; етап – етапный; капрызное – капрызности; либизация – нибилизованный; мовтобиль и нефтонобиль – антомабиль; обнаковенно; обчество; ослобонить; патрет; пинжак; помочь (помощь); примать (принимать); скрозной – скрозь; страма; собчать – сообчать; струмент; упокойный – упокойник; фатера; фершал; фулиган – фулиганить; чижолый; шешнадцать.
Интересны структурные совпадения в пейзажных описаниях:
МОРЩИНЫ ОВРАГОВ И ОКОПОВ
«длинные холмы /1/, изрезанные /2/ глинистыми оврагами /3/, словно морщинами /4/» («На речке лазоревой») – «Дальше шла холмистая /1/ местность, изрезанная /2/ неглубокими ложбинами /3/, изморщиненная /4/ зубчатыми ярками» (ТД: 3, VIII, 297).
Совпадение матрицы (и по словам, и по их последовательности):
1. холмы – холмистая местность;
2. изрезанные – изрезанная;
3. глинистыми оврагами – неглубокими ложбинами;
4. словно морщинами – изморщиненная;
То есть во втором случае сохранена структура первой фразы.
Ну а «глинистые овраги» позднее откликнутся еще и так: «по изморщиненной зачерствелыми колеями дороге» (ТД: 3, V, 270). А после начала войны – так: «по голому полю отходили морщины окопов» (ТД: 4, XV, 136).
Подобный случай:
СТРУКТУРА ЛЕТНЕГО СТЕПНОГО ПЕЙЗАЖА
| Домики внизу, у косы, как будто жались к земле, старались укрыться за зелень тополей, друг за друга. Потом ползли в гору, вырастали на волнистой линии седловины, разбегались по отлогому скату над буераком и скрывались в серо-зеленом просторе степи, закутанной в серебристую дымку тумана, тонули там, в далеком трепещущем мареве, на грани земли и неба, где чуть-чуть обозначались два седых стража – молчаливые курганы.
«Шквал» |
А кругом, – насколько хватал глаз, – зеленый необъятный простор, дрожащие струи марева, полуденным зноем скованная древняя степь и на горизонте – недосягаем и сказочен – сизый грудастый курган. ТД: 6, II, 34Даже курган синеет на грани видимого сказочно и невнятно, как во сне… Родимая степь под низким донским небом! Вилюжины балок, суходолов, красноглинистых яров, ковыльный просторс затравевшим гнездоватым следом конского копыта, курганы в мудром молчании, берегущие зарытую казачью славу… ТД: 6, VI, 64…степь окуталась паром, и сквозьголубоватую дымку чуть-чуть наметилисьнеясные очертания сторожевых курганов. ТД: 7, XIII, 127 |
Матрица описания практически идентична в последовательности пяти ее элементов:
1. в серо-зеленом просторе – зеленый необъятный простор – ковыльный простор;
2. закутанной в серебристую дымку тумана – степь окуталась паром, и сквозь голубоватую дымку;
3. в далеком трепещущем мареве – дрожащие струи марева;
4. на грани земли и неба – на горизонте – (на грани видимого);
5. /чуть-чуть обозначались два седых стража – молчаливые курганы/ – /сизый грудастый курган/ – /курганы в мудром молчании, берегущие зарытую казачью славу/ – /чуть-чуть наметились неясные очертания сторожевых курганов/.
Второй фрагмент из ТД раскрывает загадку того, о чем молчат и что именно берегут два сторожевых кургана. Когда-то они и впрямь были хранителями округи (поскольку на них находилась стража). Теперь они оберегают зарытую казачью славу.
Отчетливо и развитие метафоры два седых молчаливых кургана – сказочный и недосягаемый сизый грудастый курган (те же два, только с другого ракурса, один за другим); курганы в мудром молчании – неясные в своих очертаниях сторожевые курганы (сказочность, недосягаемость и мудрость молчания материализована в том, что в последнем случае в пространстве размыта даже форма, великан сначала раздвоился, а потом стал невидимкой).
По сути перед нами не четыре, а один текст одного автора, текст саморазвивающийся и дополняющий сам себя.
Редкий эпитет «острая спина» звучит в первом томе «Тихого Дона»: «Садился у подзёмки на табуретке, остро сутулил спину…» (ТД: 2, XIV, 189); «…жОвотом наваливаясь на острую хребтину лошади» («черновая» 2/81);.
Перед нами развитие авторской метафоры Федора Крюкова:
«Старая серая кобыла Корсачная, уже с час запряженная в арбу, уныло слушала эти пестрые, давно знакомые ей звуки бестолково-радостного волнения и суеты. Она знала, что предвещают они двухнедельную полосу тяжелой, изнурительной, выматывающей все силы работы. Бока у Корсачной были желтые от навоза, шея местами облезла, а спина – острая, как пила…» («Зыбь»).
Кобылу мы видим сбоку. Пила – это ее хребет с торчащими, как зубья пилы позвонками. Стало быть, и в «Тихом Доне» человек сел в профиль к рассказчику, наклонился к своим коленям, и мы увидели его хребет, острый, похожий на зубья пилы.
Подтверждение такого чтения находим в том же «Тихом Доне»:
«Клячи… были худы до ужаса. Острые хребтины их были освежеваны беспрестанными ударами кнутов, обнажали розовые в красных крапинках кости с прилипшими кое-где волосками шерсти» (ТД: 4, III, 32). Или в «черновиках» о Петре Мелехове: «наваливаясь на острую хребтину лошади» (2/81).
«Зыбь» написана в 1909-м, но вошла в книгу «Рассказы. Т. 1», где автор собрал свои лучшие повести и рассказы 1908–1911 гг. Вышла книга в 1914-м.
Молодой Владимир Маяковский в 1915-м превратил «острую спину-пилу» во «флейту-позвоночник», и эта метафора стала названием поэмы (есть тут и такие строки: «Привяжи меня к кометам, как к хвостам лошадиным…»), а тремя годами позднее воплотилась в стихи «Хорошее отношение к лошадям» (это, в частности, о том, что старых лошадей не кнутом надо поднимать, а добрым словом).
Знаменитые «шолоховские метафоры», о которых столь восторженно и так много любит рассуждать официальное шолоховедение, – верная примета крюковского стиля. Ограничимся такими примерами:
– «…ветер сыпнул им в лицо горстями белых отрубей» («Группа Б.» IV. Праздники).
– «…красноречивые доспехи нищеты» («Сеть мирская»).
– «…выползали свинцово-серые облака, круглые, как пузатые чайники» ( «Зыбь»).
– «Мать оглядывалась и грозно потрясала пальцем. Зося изо всех сил крепилась, но все-таки фыркала, словно бутылка игристого квасу…» ( «Группа Б». VI. Зося).
Еще один миф: в прозе Крюкова мало диалектизмов, особенно в авторской речи.
Американский профессор Герман Ермолаев утверждал, что Федор Крюков не мог написать «Тихого Дона», ведь в первых изданиях можно встретить «случаи неправильного употребления одних и тех же слов. Так, “мигать” употребляется в смысле “мелькать”: “И пошел… мигая рубахой”, “Дарья, мигнув подолом…”».
Но это тоже Крюков. «…тень от его лохматой папахи размашисто мигала от двери к потолку» («Мечты»), «Кирик мигнул смоляно-черной, широкой бородой…» («Ратник»).
Вот и Ф. Ф. Кузнецов, найдя в рукописях романа «хищный вислый по-скопчиному нос» (а еще «вислый коршунячий нос»), пишет:
«…Шолохов и здесь вел мучительный поиск более точных слов и более выразительных деталей. Конечно же, «вислый коршунячий нос» – куда точнее, чем «вислый по-скопчиному нос», – тем более что современному читателю трудно понять, что значит это слово. Оно происходит от диалектного: “скопа” – разновидность ястреба (по другим данным – из семейства соколиных), то есть действительно указывает на “коршунячий” нос».
Увы, в самом раннем рассказе Крюкова есть такой портрет казака: «Нос у него был острый, “скопчиный”, брови густые и седые, а глаза маленькие, желтые» («Гулебщики»). Замена «скопца» на коршуна была сделана, чтобы развести омонимы и избежать комической двусмыслицы.
Прав Феликс Кузнецов, ссылающийся на Серафимовича, «который справедливо утверждал, что “Тихий Дон» мог написать только человек, который родился и вырос именно в Донском краю”».
Приведу лишь некоторые примеры из материалов к словарю параллелей прозы Крюкова и «Тихого Дона». Возьмем, к примеру, букву «О»:
ОБИРАТЬ (ОБДИРАТЬ, СДИРАТЬ) СОСУЛЬКИ С УСОВ И БОРОДЫ
«Обобрал последние мокрые сосульки с усов и бороды» и «Он обобрал сосульки с усов» («Группа Б.»); «обирая сосульки с клочковатой бороды» («Ползком») – «обдирал мизинцем сосульки с бороды» (ТД: 2, VII, 149). – «обдирая сосульки с бороды» (ТД: 2, XXI, 221-222); «обсасывал с усов ледяные сосульки» (ТД: 4, IV, 58) – «содрал намерзшие на усах и бороде сосульки» (ТД: 5, XIII, 278); «Ногайцев, содрав с усов, покидал к порогу сосульки» (ТД: 6, XV, 124).
Ср. с рассказом машиниста паровоза: «– А тут, думаешь, лежим? Весь день ходишь, как черт вымазанный… А зимой мороз, снег… Намерзнут сосульки, по полпуда, – ты отбей да вытри. Ходишь мокрый весь на холоду, на ветру…» («Новое»).
ОБЛАКО-ЛЕБЕДЬ
«…белым лебедем плывет курчавое облако» («В субботу»); «…белыми лебедями круглые серебристые облачка» («После красных гостей») – «Ветер нес огонь из цыгарок…. Под звездами он хищно налетал на белоперую тучу (так сокол, настигнув, бьет лебедя круто выгнутой грудью), и на присмиревшую землю, волнисто качаясь, слетали белые перышки-хлопья…» (ТД: 6, XVII, 139); «Округло-грузные, белые, как летом, лебедями медлительно проплывали с юга облака» (ТД: 6, XXXVIII, 248)
ОБЛИТАЯ МАТЕРИЕЙ (РУБАХОЙ) ФИГУРА (СПИНА)
«…на гибкую фигуру, облитую серой материей» (Крюков. «Неопалимая купина»); – «Согнутая спина его, плотно облитая рубахой, темнела мокрыми пятнами» (ТД: 1, IX, 49).
В таком виде эти конструкции уникальны. Исключение «молодая грудь, облитая белой с вышивкой рубахой» (Серафимович. Железный поток. 1924) может говорить о заимствовании из еще не опубликованного ТД).
По НКРЯ ранний пример подобного оборота: «Он сидел немножко боком на кресле подле графини, поправляя правой рукой чистейшую, облитую перчатку на левой…» и «Взглянув на Наташу, он подошел к сестре, положил руку в облитой перчатке на край ее ложи, тряхнул ей головой и наклонясь спросил что-то, указывая на Наташу». [Л. Н. Толстой. Война и мир. Том второй (1867–1869)]. Очевидно заимствовано Куприным: «Он взял ее протянутую через окно маленькую руку, крепко облитую коричневой перчаткой…». [А. И. Куприн. Поединок (1905)].
Кроме того, иная конструкция: «Сии многочисленные, золотом облитые сановники…» [Н. М. Карамзин. История государства Российского: Том 10 (1821–1823)]; «почти каждый облит галунами» [А. А. Бестужев-Марлинский. Мулла-Нур (1836)]»; «В передней толпились официанты, одетые в бархат, облитые золотом» [И. А. Гончаров. Счастливая ошибка (1839)].
ОГАРНУТЬ
огарну’ть, обгарнуть, обгорнуть – окружить или охватить, обнять (занять), огородить. Огарнуть двор (тульское). (Даль);
огарнова’ть – окружить (воронежское, ростовское, волгоградское). (СРНГ). В ДС нет.
«…– Ухвати я тогда этого коня, – ушел бы! Ей-Богу, ушел бы… Не успел: огарнули кругом, шашками по плечам лупят… Достать как следует не могли, оттого не поранили» («Итальянец Замчалов») – Ср. в том же контексте (!) по ранним изданиям, начиная с журнальной, и по шолоховской рукописи ТД: «В стороне человек восемь драгун огарновали Крючкова» (ТД: 3, VII, 300). В издании 1953 г. поправлено: «окружили».
Начальный вариант восстановлен в издании 1995 г.
В первом примере речь о том, как эскадрон мадьярских гусар окружил казака Замчалова, а в ТД немецкие драгуны огарновали Кузьму Крючкова.
ОКТАВА
«Было дело под Полтавой, что называется!.. баба свистнула октавой, – извините…» («Спутники»); «Было дело под Полтавой, баба треснула октавой…» («Обвал»).
См.: «Христоня, удовлетворенный, замолкал, слушал нового оратора с прежним неослабным вниманием и первый покрывал сотни голосов своим густым октавистым “верна-а-а!..”» (ТД: 5,VIII, 235).
«…за Матвеевым курганом октавой бухнуло орудие» (ТД: 6, XXXII, 211).
«…откуда-то с Казанского юрта по воде доплыла октава орудийного залпа» (ТД: 6, XLV, 289).
«Канонада разрасталась. Садкие, бухающие звуки выстрелов сливались, в душном воздухе колеблющейся октавой стоял раскатистый, громовитый гул» (ТД: 6, LIX, 385).
«Было дело под Полтавой, дело славное, друзья…» – старинная солдатская песня. Но у Крюкова в «Спутниках» и «Обвале» в пародийно-сниженных вариантах «баба» заменила «пушку». Это развитие метафоры другой знаменитой солдатской песни «Наши жёны – ружья (пушки) заряжёны…»
ОТМАХИВАСЬ ГОЛОВОЙ
развитие метафоры:
«Лошадь шагала ленивым шагом, усиленно отмахиваясь головой от мух» («Зыбь») –«Он зряшно топтался около первого орудия, отмахиваясь головой от цвенькавших пуль, и при каждом его резком движении сбоку болталась поношенная полевая сумка» (ТД: 6, VIII, 82).
К этой параллели М. Ю Михеев сделал такое справедливое замечание:
«Отмахиваться + мухи/пули/головой: первое слишком тривиально, второе можно считать развитием метафоры, но у все же в текстах Крюкова оно не зафиксировано, а ранее уже было много раз: // Идя на правом фланге своего взвода, он, слыша свистящие около него пули, отмахивал их всякий раз рукой, а при грохоте ядра приседал почти до земли. [Р. М. Зотов.Рассказы о походах 1812 года (1836)]; // На земле валялся какой-то военный доктор; я счел его раненым, но оказалось, что он от испуга потерял рассудок. Руками отмахивая летавшие пули«кыш! кыш!» доктор кричал жалобным голосом, чтоб его не кололи, потому что навеки закаялся лезть в драку. [Ф. Ф. Торнау. Воспоминания русского офицера (1874)]; // С деревенского выгона, отчаянно вскидывая спутанными передними ногами, прыгали крестьянские лошади, отмахиваясь головами и хвостами от наседавших на них мух, оводов и слепней. [Н. С. Лесков.Некуда (1864)]».
При этом отмахиваться головой от пуль – только в ТД.
ОТСЛОНИТЬ и ОТСЛОНИТЬСЯ
«Поднял винтовку, щелкнул, – я успел отслонить от двери в угол… Вдарил – мимо. Часовой отстранил его» («В гостях у товарища Миронова») – «Часовой из нестроевых казаков, стоявший у входа, было преградил ему дорогу. – Пропуск есть? – Пусти! Отслонись, говорят!» (ТД: 6, XLV, 285).
Вдарить в значении ‘выстрелить’ в ТД неоднократно.
ОХЛЮПКОЙ
езда на лошади без седла (ДС)
«Уляшка вдруг колыхнулась от беззвучного смеха и схватила за плечо грузную Макриду. – А он мне: тебя, говорит, под строй не возьмут, под седлом ты непривычна, все охлюпкой ездили на тебе… С меня, говорит, теперь гнедого достаточно. Куда тебе за нами с мешком сухарей тюлюпать? Езжай домой. Молитесь там, служите молебны…» («Душа одна») – «ехал он без седла, охлюпкой» (ТД: 1, XVII, 85); «поскакал охлюпкой» (ТД: 2, XVIII, 209).
Оба раза в ТД только этот вариант, а не «охлюпки» и не «охлюпя», также зафиксированные в ДС. В НКРЯ до ТД употребления слова охлюпкой не замечено и ни разу не встречаются два других его варианта.
ОЧУНЕТЬСЯ
очунеть и очунёться – выздороветь, придти в себя; очуматься – придти в себя, опомниться; очунаться – прийти в себя, выйти из обморочного состояния, из забытья; очунивать – выздоравливать, приходить в себя (ДС).
«… – Мы кричим, Господа гневим; а он, может, и очунелся?» («Душа одна») – «– Ты бы рассольцу. А? Доразу очуне́ешься» (ТД: 2, XVIII, 209); «– Очунелась, никак. Семь месяцев лежала» (ТД: 2, XXI, 209); «– А ведь сынок-то, может, еще и жив, старуха «–…Бог милостив, очуне́ешься» (ТД: 7, XVI, 165).
В НКРЯ до ТД примеров нет.
У Крюкова и в ТД использан один из четырех возможных синонимических вариантов с основой на очу–. Но в том же рассказе «Душа одна» мы обнаруживаем и вариант на почу–(«почунеть/почунеться)». Обе этих формы также встречаются в ТД.
ОЧ-ЧЕНЬ ХОРОШО!
очень хорошо (графическая передача экспрессии)
В таком написании в речи героев: «– Очень просто! оч-чень просто!» («Тишь»); …– ей-богу, женьитесь (так! – А. Ч.). Советую. Оч-чень хорошо!» («Новые дни») – «– Поднялся на ноги? Оч-чень хорошо! Анну мы забираем». – И догадливо-намекающе сощурился: – Ты не возражаешь? Не возражаешь? Да-да… Да-да, оч-чень хорошо!» (ТД: 5, XXVII, 299–300).
В НКРЯ до ТД 1968 г. примеров нет (пример из ТД упущен).
(Точно так совпадает экспрессивная графика ряда других слов и способ записи некоторых междометий!)
ОЩУПКОЙ
наощупь (ДС)
«судить, рядить, ощупкой находить связь» («В сугробах») – «ощупкой ищет у меня в голове вшу» (ТД: 4, XVIII, 90) и пр. (всего три примера)
В НКРЯ до ТД примеров нет.
Другие параллели см.:
http://chernov-trezin.narod.ru/TitulSholohov.htm
САМОДОНОС ШОЛОХОВА
В своей книге о Шолохове Ф. Ф. Кузнецов раскрыл тайну цифири на одном из шолоховских «черновиков». Речь о начальной странице второй части романа:
«…Но начала первой главы второй части на этой странице так и не последовало. Вместо него написан столбец цифр –
50
х 35
1750
х 80
140000
Это хорошо знакомый каждому пишущему подсчет: число строк на странице – 50 множится на число печатных знаков в строке – 35, что дает 1750, далее число знаков на странице – 1750 умножается на количество страниц первой части рукописи – 80, что дает 140 тысяч печатных знаков. Учитывая, что один авторский лист составляет 40 тысяч знаков, делим 140 тысяч на 40 тысяч и получаем: 3 с половиной авторских листа первой части “Тихого Дона”, которые Шолохов написал за месяц».
Поздравим шолоховеда со славной находкой: перед нами действительно расчет «листажа» первой части романа. Однако в рукописи она занимает не 80, а 85 (плюс 2 страницы вставки). На странице и впрямь в среднем 50 строк, но не по 35, а по 45–50 знаков в строке (разумеется, считая и пробелы между словами, как это принято в книгоиздательском деле).
Шолохов механически скопировал крюковскую прикидку.
Это в строке черновых рукописей Крюкова («Булавинский бунт», «Группа Б.») действительно по 35–40 знаков). Почерк у Крюкова был мельче шолоховского, школьного. Крюков оставлял поля в полстраницы. Здесь он делал правку, здесь же, параллельно первому наброску, создавал иной вариант текста.
Шолохова не смутило, что не совпадает число страниц (87 против 80), а количество знаков в строке его фальшивки куда больше, чем в крюковских рукописях.
Он просто ничего не понял. И, скопировав чужой черновик, сам же поймал себя за руку.
Впрочем, с товарищами по партии он умел быть откровенным.
В марте 1939 г. на XVIII съезде ВКП(б) будущий Нобелевский лауреат рассказал о своем творческом методе:
«В частях Красной Армии, под ее овеянными славой красными знаменами, будем бить врага так, как никто никогда его не бивал, и смею вас уверить, товарищи делегаты съезда, что полевых сумок бросать не будем – нам этот японский обычай, ну… не к лицу. Чужие сумки соберем… потому что в нашем литературном хозяйстве содержимое этих сумок впоследствии пригодится. Разгромив врагов, мы еще напишем книги о том, как мы этих врагов били. Книги эти послужат нашему народу…».
О том, что это была сумка с романом Федора Дмитриевича Крюкова, Шолохов умолчал.
СВИДЕТЕЛЬ СЕРАФИМОВИЧ
В десятую годовщину «Великого Октября» на банкете гостинице «Националь» Серафимович представил иностранным гостям скромного юношу:
– Друзья мои! Вот новый роман! Запомните название – “Тихий Дон” и имя – Михаил Шолохов. Перед вами великий писатель земли русской, которого еще мало кто знает. Но запомните мое слово. Вскоре его имя услышит вся Россия, а через два-три года и весь мир!
Как попал к Шолохову роман Крюкова? Об этом много написано, но всё – только версии. Нет лишь сомнений в том, что дело устроил земляк и поклонник Крюкова Александр Серафимович. По одной из донских версий, рукопись была передана сестрой Крюкова именно Серафимовичу. Следы его знакомства с неопубликованным романом попали и в «Железный поток» (1924). Да и в журнал «Октябрь» он идет работать главным редактором для того, чтобы напечатать роман Шолохова. (Напечатав, – увольняется.)
В письме Крюкову от 28 апреля 1912, высоко оценивая крюковский талант, Серафимович писал, что изображаемое им «трепещет живое, как выдернутая из воды рыба, трепещет красками, звуками, движением, и все это – настоящее, все это, если бы Вы и хотели придумать, так не придумаете, а оно прет из Вас, как из роженицы. И если бы эту Вашу способность рожать углубить, уширить, Вы бы огромный писатель были» (Переписка между Ф. Д. Крюковым и А. С. Серафимовичем. Вступительная статья, подготовка текста и комментарий В. М. Проскурина. Журнал «Волга», 1988, № 2). Это полуцитата из «Тихого Дона» (либо из какого-то предшествующего ему крюковского текста): «Возле баркаса, хлюпнув, схлынула вода, и двухаршинный, словно слитый из красной меди, сазан со стоном прыгнул вверх, сдвоив по воде изогнутым лопушистым хвостом. Зернистые брызги засеяли баркас»; «Зевая широко раскрытым ртом, тот ткнулся носом в шершавый борт и стал, переливая шевелящееся оранжевое золото плавников…» и т. д. вплоть до «трепещет рыба» (ТД: 1, II, 15).
А так Серафимович напутствовал «Донские рассказы» юного гения: «Как степной цветок, живым пятном встают рассказы т. Шолохова. Просто, ярко, и рассказываемое чувствуешь – перед глазами стоит. Образный язык, тот цветной язык, которым говорит казачество. Сжато, и эта сжатость полна жизни, напряжения и правды».
А еще есть записки писателя-фронтовика Иосифа Герасимова (К. Кожевникова «Дождички по четвергам», «Вестник», № 19 (330), 2003). Перед войной, он, студент-первокурсник, пришел со своим приятелем в номер к выступавшему в Свердловске Серафимовичу.
Тот во время беседы пил молоко.
Приятель, тоже студент, среди прочих вопросов ляпнут:
А верно, что Шолохов не сам «Тихий Дон» написал?.. Что он нашел чужую рукопись?»
Мэтр сделал вид, что не услышал – потянулся за вторым стаканом молока.. А когда прощались, бросил загадочную фразу: «Ради честной литературы можно и в грех войти».
«Только позже, – писал Герасимов – меня осенила запоздалая догадка: он все знал об авторе “Тихого Дона”, но он лгал, считая, что это – во благо».
Но он и впрямь преклонялся перед Крюковым. И убедил себя, что это единственный способ спасти роман.
ИЗ МОЕЙ ПЕРЕПИСКИ:
Петр Навашин: Андрей! Я вкратце слышал от своей бабушки, жены Конст. Паустовского, что Серафимовичу принесли рукопись Крюкова… Якобы ему предлагали опубликовать «Тихий Дон» под своим именем, но у пожилого писателя хватило ума не согласиться на это… Согласитесь, странно после «Железного потока» создать этот роман! Тогда всплыл молодой Шолохов, а, далее примерно, как и Вы рассказывали. Паустовский в те годы неоднократно встречался с Серафимовичем и помнил неловкость писателя в связи с возней по поводу авторства…
АЧ: Петр, я правильно понял, что Серафимович рассказал Паустовскому про то, как он отказался поставить свое имя. А после (когда из Шолохова решили делать автора) он согласился пойти главным редактором «Октября», чтобы издать роман под фамилией Шолохова…
Петр Навашин: Именно! Так рассказывал Паустовский… Серафимович был достаточно умен и понимал, что после его творений, Тихий Дон «несколько» не впишется в стройный ряд его книг… И, тогда нашелся молодой Шолохов, на которого, как сейчас говорят, «повесили» авторство…. Я не специалист, то, что пишет Солженицын об этой истории совершенно верно, просто Исаич не был очевидцем событий, а Паустовский был и варился в общем литературном котле… Серафимович отказался наотрез… Он был в те годы пожилой классик сов. литературы и амбиции его стали умеренными, как я слышал… Моя бабушка Валерия Владимировна Валишевская-Навашина была замужем за Конст. Георг. Паустовским с 1935 по 1950 годы (когда он оставил семью и, вскоре женился на Татьяне Арбузовой).
Я, будучи ребенком, а потом, молодым человеком слушал весьма любопытные рассказы о их совместной жизни, литературном круге и различных событиях тех лет в писательской среде… С некоторыми героями тех лет (уже весьма пожилыми) я имел честь быть знакомым в свои юные годы. Бабушка рассказывала, что несмотря на чисто писательский дар Костантина Георгиевича – фантазерство, в характеристиках своих коллег он был беспристрастен и не позволял никаких сплетен и пересудов… То, что я вкратце поведал, я слышал в конце шестидесятых годов (я родился в 1954 г. и в те годы был вполне сознательным юношей). Бабушка рассказывала совершенно сознательно и была в полном сознании, причем почти профессионально разбирала архив Паустовского, оставшийся поле ухода писателя из семьи! Спустя много лет я еще раз самостоятельно разбирал архив (перед передачей в РГАЛИ), но никаких ссылок на Шолохова там не нашел…Так, что слова жены Паустовского могу подтвердить только с ее слов! Всегда рад помочь, простите за повтор слов и сумбурное изложение… Кстати, если помните, моя мама – дочь Надежды Крандиевской, сестры Вами (и мной) любимой Натальи Крандиевской…
Конец переписки.
Александр Серафимович был земляком и почитателем Фёдора Крюкова. В 1912 году он писал Крюкову, что изображаемое им «трепещет живое, как выдернутая из воды рыба, трепещет красками, звуками, движением». Следы его знакомства с неопубликованным романом попали и в повесть Александра Серафимовича «Железный поток» (1924 год). Да и в журнал «Октябрь» Серафимович идёт работать главным редактором лишь для того, чтобы напечатать роман «Тихий Дон». Напечатав, увольняется.
***
Сегодня выявлено до тысячи параллелей прозы Крюкова с «Тихим Доном». Будет много больше.
Повторим за Гамлетом:
…Ведь злодеянья в сущности бессмертны.
Укрой землею – все равно восстанут,
Хоть поздно, а предстанут пред людьми.
Но предстали не только злодеяния Ульянова и штокманов. Предстала русская речь практически уничтоженного сословия. Спасибо Крюкову с его музыкальным и душевным даром слушать других людей, он сохранил ее, как сохранили древний новгородский язык берестяные грамоты.
Конечно, предстанет и его пророческая проза. Перечислю только самое свое любимое: «Гулебщики», «К источнику исцелений», «Товарищи», «Шквал», «Мать», «Спутники», «Счастье», «На речке лазоревой», «Сеть мирская», «Неопалимая купина», «Ратник», «Душа одна», «Ползком».
Первый рассказ датирован 1892-м, последний – 1916.
А после 16-го года он рассказов не писал. Только очерки. Да «Тихий Дон».
По официальной, но ничем не подтвержденной версии (свидетельство – неизвестно откуда посланная анонимная телеграмма), 4 марта 1920 Крюков умер от тифа в одной из кубанских станиц (называют две разных) во время отступления белых к Новороссийску, по другой, также неподтвержденной, но все же имеющей имя и сообщающей некоторые подробности, схвачен и расстрелян красными.
Вторая версия более похожа на правду потому, что, судя по концовке 7 части романа, новороссийскую трагедию Крюков описал сам.
ШЕСТЬ БИБЛЕЙСКИХ ВСАДНИКОВ «ТИХОГО ДОНА»

Линкор «HMS Emperor of India» 14 марта 1920 в Новороссийске принял участие в последнем бою, данном при исходе Добровольческой армии. Однако главный калибр его орудий не 305 мм, а 343 мм, т.е. не 12 дюймов, как утверждается в «Тихом Доне», а 13,5. Пять орудийных башен по две пушки 343 мм на каждой башне. Две башни носовые. (Корабельные двенадцатидюймовые орудия образца 1895 г. производились на Обуховском заводе, потому для русского писателя начала XX века ошибка вполне объяснима.)
Шесть всадников, которыми заканчивается седьмая (очевидно, что последняя авторская) часть «Тихого Дона», далеко меня не отпускали. Так и жил под их конвоем. Поиски в интернете ничего не давали. И закономерно: в том сюжете, к которому апеллирует автор, шестеро карателей входят в город, а не въезжают.
Но сначала последняя авторская страница «ТД» (концовка 7 части романа):
— Не надо! Давай тут останемся… На миру, знаешь, и смерть красна…
— Э, черт, трогай! Какая там смерть? Чего ты мелешь? — Григорий в досаде хотел еще что-то сказать, но голос его заглушило громовым гулом, донесшимся с моря. Английский дредноут «Император Индии», покидая берега союзной России, развернулся и послал из своих двенадцатидюймовых орудий пачку снарядов. Прикрывая выходившие из бухты пароходы, он обстреливал катившиеся к окраинам города цепи красно-зеленых, переносил огонь на гребень перевала, где показались красные батареи. С тяжким клекотом и воем летели через головы сбившихся на пристани казаков английские снаряды.
Туго натягивая поводья, удерживая приседающего коня, Богатырев сквозь гул стрельбы кричал:
— Ну и резко же гавкают английские пушки! А зря они стервенят красных. Пользы от ихней стрельбы никакой, одного шума много…
— Нехай стервенят! Нам зараз все равно. — Улыбаясь, Григорий тронул коня, поехал по улице.
Навстречу ему из-за угла, пластаясь в бешеном намете, вылетели шесть конных с обнаженными клинками. У переднего всадника на груди кровенел, как рана, кумачный бант.
А потом нашел, откуда и зачем, пересев на коней, ворвались эти всадники в роман Федора Крюкова:
1 И возгласил в уши мои великим гласом, говоря: пусть приблизятся каратели города, каждый со своим губительным орудием в руке своей. 2 И вот, шесть человек идут от верхних ворот, обращенных к северу, и у каждого в руке губительное орудие его… (Иезекииль. 9:1-2)
Таково пророчество о гибели Иерусалима.
В Новороссийск красные вошли тоже с севера, через перевал.
И в сцене исхода Добровольческой армии из России «великий глас» (голос Бога) превратился в «громовой гул» корабельной артиллерии английского дредноута «Император Индии».
И вовсе не странно, что «каратели» контаминированы тут со всадниками Апокалипсиса: «Так видел я в видении коней и на них всадников, которые имели на себе брони огненные, гиацинтовые и серные; головы у коней – как головы у львов, и изо рта их выходил огонь, дым и сера (9:17)».
Камень гиацинт имеет «чисто красный цвет». Это (наравне с огненным и серым) цвет брони всадников Апокалипсиса.
Перечитаем последнюю строку романа:
«У переднего всадника на груди кровенел, как рана, кумачный бант».
«Новороссийск пал 14 (27) марта в 11.00 утра». Подробности здесь:
http://elan-kazak.ru/book/export/html/1083
У Федора Крюкова «таинственный всадник на вороном коне» мелькает в рассказе «Товарищи» (1909 год). Это из того же «Апокалипсиса»: «И когда Он снял третью печать, я слышал третье животное, говорящее: иди и смотри. Я взглянул, и вот, конь вороной, и на нем всадник, имеющий меру в руке своей» (6:5).
СЛОВА, БЛИСТАТЕЛЬНО ОТСУТСТВУЮЩИЕ
в 8 части «Тихого Дона»,
бульварной подделке первых шолоховедов
Анонимные имитаторы, дописывавшие «Тихий Дон» в 1940 году, сделали крупную ошибку: ориентируясь на метод социалистического реализма (то есть на идеологическую сверхзадачу), выдали себя с потрохами.
В последней части романа нет того, что обязательно (и, как правило, неоднократно!) встречается в каждом томе романа – автомобилей и аэропланов, майданов и займищ, делян, болот и музги.
Нет в этой последней части вестовых, цыган, гармоней и гармонистов, воробьев, змей, краснотала, ольшаника, веников, пчёл и подсолнухов. Здесь не умеют ничего развязывать и не знают развязок.
Нет существительных «рубль» и «столб», нет такого явления как «ругательство».
Нет ничего малинового и ничего зеленоватого. И никого «сердитого». Нет слов «держава» и «император», эпитетов «войсковой» и «вольный» (а в предыдущих частях: «вольное житьё»; «вольный Дон»; «казаки – люди вольные»; «вольные, свободные сыны тихого Дона»). Нет, разумеется, и ключевого понятия «Тихий Дон». И – хотя люди продолжают гибнуть сотнями и тысячами – ни одного слова «труп» (встретившегося 41 раз в предыдущих главах).
И нет слов с корнем «скорбь».
| Некоторые слова, отсутствующие в 8 части ТД | 1 кн. | 2 кн. | 3 кн. | 4 кн., 7 ч. | 4 кн., 8 ч. |
| Автомобиль, автомобильный, броневавтомобиль | 5 | 8 | 3 | 7 | – |
| Аэроплан, ероплан | 3 | 4 | 10 | 4 | – |
| Барабан, барабанить, забарабанить и пр. | 5 | 5 | 2 | 4 | – |
| Безусый | 2 | 2 | 1 | 3 | – |
| Болото, болотистый | 6 | 12 | 1 | 1 | – |
| Брезгливо, брезгливый, брезгливость | 4 | 3 | 2 | 2 | – |
| Вглубь/в глубь | 2 | 4 | 4 | 3 | – |
| Веник | 4 | 1 | 3 | 1 | – |
| Вестовой | 2 | 17 | 5 | 3 | – |
| Взлохматить, взлохмаченный | 3 | 4 | 1 | 2 | – |
| Войсковой (круг, правительство, атаман, есаул, старшина, оружие, хор, оратор, земля, пай и пр.) | 7 | 58 | 17 | 13 | – |
| Вольный | 3 | 10 | 3 | 5 | – |
| Воробей | 7 | 3 | 5 | 3 | – |
| Всчет/в счет | 2 | 1 | 1 | 2 | – |
| Выметываться; выметавшаяся (о всходах) | 1 | 2 | 4 | 3 | – |
| Вынужден, вынужденный | 2 | 10 | 3 | 3 | – |
| Гармонь, гармонист | 3 | 1 | 4 | 2 | – |
| Глянцевый, глянцевитый, до глянца и пр. | 7 | 9 | 7 | 4 | – |
| Гостинец | 4 | 1 | 4 | 4 | – |
| Гурт, гуртом, гуртоваться | 5 | 2 | 4 | 4 | – |
| Деляна, делянка | 9 | 1 | 3 | 2 | – |
| Держава, державный, самодержавие и пр. | 2 | 6 | 7 | 3 | – |
| Дитё (со 2 кн. дите), дитя, дитятя | 15 | 4 | 7 | 5 | – |
| Жисть | 2 | 4 | 2 | 1 | – |
| Займище | 19 | 2 | 8 | 3 | – |
| Закутанный | 3 | 2 | 5 | 4 | – |
| Залп | 7 | 19 | 6 | 6 | – |
| Зацокать | 2 | 1 | 1 | 1 | – |
| Затопотать | 3 | 2 | 2 | 2 | – |
| Зеленоватый | 8 | 3 | 6 | 2 | – |
| Змея, змеиный, змеиться | 7 | 3 | 3 | 3 | – |
| Износ, износить, неизносный и пр. | 2 | 2 | 5 | 3 | – |
| Изо дня в день | 2 | 1 | 3 | 3 | – |
| Император, императорский | 14 | 6 | 15 | 5 | – |
| Каракуль, каракулевый | 3 | 4 | 5 | 2 | – |
| Краснотал, красноталовый | 4 | 2 | 6 | 1 | – |
| Кушак | 1 | 2 | 3 | 1 | – |
| Лишенько, лишения, лишенный | 1 | 2 | 5 | 7 | – |
| Майдан | 3 | 12 | 8 | 3 | – |
| Малиновый | 3 | 2 | 4 | 3 | – |
| Могем, могешь, могет, смогет, помогем | 14 | 9 | 14 | 7 | – |
| Музга | 1 | 1 | 6 | 10 | – |
| Наотрез отказался (отказался наотрез и подобное) | 1 | 1 | 3 | 5 | – |
| Непристойный, непристойности | 3 | 2 | 1 | 1 | – |
| Низовской (казак) | 2 | 6 | 4 | 2 | – |
| Оголенный | 17 | 5 | 6 | 3 | – |
| Орудийный (выстрел, гул, гром, запряжка и пр.) | 5 | 9 | 22 | 18 | – |
| Ослобонить | 3 | 2 | 3 | 5 | – |
| Осуществить и пр. | 2 | 2 | 2 | 3 | – |
| Погромыхивать | 3 | 2 | 4 | 5 | – |
| Ольшаник | 2 | 2 | 5 | 1 | – |
| Офицерик | 1 | 1 | 2 | 2 | – |
| Подголосок, подголашивать | 2 | 3 | 4 | 2 | – |
| Подлец | 2 | 5 | 1 | 1 | – |
| Подсолнух | 9 | 4 | 7 | 7 | – |
| Подтягивать | 2 | 1 | 4 | 5 | – |
| Пожар, пожарный, пожарище | 8 | 2 | 8 | 2 | – |
| Похабный, похабник, похабничать | 9 | 1 | 3 | 1 | – |
| Примать | 1 | 2 | 4 | 1 | – |
| Принудить/понудить/нудиться/занудившийся | 4 | 7 | 9 | 2 | – |
| Произносить | 2 | 4 | 1 | 5 | – |
| Пустыня, пустынный | 1 | 4 | 3 | 2 | – |
| Пчелы, пчельник, пчелиный | 5 | 2 | 8 | 1 | – |
| Пятнышко | 5 | 1 | 2 | 1 | – |
| Развязка, развязать и пр. | 9 | 9 | 10 | 5 | – |
| Рубль | 8 | 6 | 2 | 4 | – |
| Ругательство | 3 | 4 | 3 | 3 | – |
| Сердитый | 9 | 9 | 10 | 2 | – |
| Сиденье | 9 | 2 | 5 | 1 | – |
| Скорбь, скорбный, скорбно и пр. | 3 | 4 | 2 | 3 | – |
| Степень, степенство, степенно, постепенно. | 4 | 14 | 3 | 5 | – |
| Столб | 12 | 9 | 3 | 2 | – |
| Строевой | 6 | 4 | 10 | 3 | – |
| Сугроб; сугробистый | 4 | 2 | 8 | 1 | – |
| «Так точно» | 15 | 1 | 1 | 6 | – |
| Тихий Дон (!!!) | 10 | 7 | 6 | 3 | – |
| Траншея | 1 | 5 | 10 | 7 | – |
| Трепетно, трепетный | 2 | 1 | 4 | 5 | – |
| Труп | 13 | 12 | 11 | 5 | – |
| Тулуп | 7 | 7 | 1 | 3 | – |
| Ударный | 1 | 2 | 3 | 10 | – |
| Урон | 1 | 3 | 7 | 4 | – |
| Хучь | 27 | 14 | 27 | 19 | – |
| Цыган, цыганка, цыгановатый и пр. | 8 | 8 | 3 | 1 | – |
| Чекмень, чекменек | 5 | 1 | 8 | 6 | – |
| Чумбур | 3 | 1 | 2 | 2 | – |
| Шнур, шнурок | 2 | 1 | 4 | 2 | – |
| Шрапнель, шрапнельный | 4 | 5 | 6 | 5 | – |
ПРЕСТУПНАЯ БЕСХОЗЯЙСТВЕННОСТЬ
Болотов и Шолохов во дворе Миллеровского ОГПУ. 1928. Один из бывших руководителей Вешенского восстания Харлампий Васильевич Ермаков, считающийся шолоховедами прототипом Григория Мелехова, был во внесудебном порядке расстрелян в подвале этого дома 17 июня 1927 года. Произошло это вскоре после того, как он согласился встретиться и встретился с писателем Шолоховым.
Зная где хранятся «черновики», Шолохов не показал их и после того, как на Западе вышла разоблачающая его плагиат книга Ирины Медведевой-Томашевской «Стремя «Тихого Дона» (Париж: YMCA Press, 1974). Видимо, ответственные товарищи по-товарищески и объяснили ему еще 29-м, что сработал он, как двоечник на переменке: сдул, не понимая смысла того, что копирует.
Так что спрячь подальше. А лучше сожги.
Не сжег. Пожалел собственного титанического труда. Это же и впрямь была мука-мученическая для того, кто никогда ничего не писал… Несколько месяцев перерисовывать шестьсот страниц чужих черновиков и беловиков (привлек жену и ее сестру, даже их брата Ивана, но большего осилить не сумели и втроем, томов-то четыре!) – это ад для человека с неполными тремя классами образования.
Переписывая в 1929-м для РАППовской комиссии по плагиату, казалось бы, свою же собственную рукопись, Шолохов многократно доказал, что он не понимает текста.
Даже свои книги он не надписывал в присутствии гостей, просил оставить до завтра. И пораженным шолоховедам говорил, что черновики своих творений он сжигает («Иначе бы тут было не повернуться!»). Вот и после кончины классика стол его, как свидетельствовала внучка Мария Михайловна, оказался абсолютно пустым: ни одной исписанной бумажки.
Этот завербованный в 1923 году в НКВД, под старость спившийся иногородний, с тремя классами образования и уголовным прошлым, был полуграмотным. Всю письменную работу делали секретари Шолохова, которые при вступлении в должность давали подписку о неразглашении.
Публикация обнаруженных в 1999-м шолоховских «черновиков» стала надгробным камнем над телом шолоховского мифа: масса «ошибок непонимания» превысила все разумные нормы.
Казачий писатель Д. Петров-Бирюк вспоминал, что после публикации первых частей романа в Ростовский обком партии, в газету «Молот» и лично ему стали поступать письма от казаков, обвинявших Шолохова в плагиате. В некоторых из них утверждалось, что «Тихий Дон» написал Фёдор Крюков.
Д. С. Лихачев усомнился в авторстве Шолохова еще в 20-х. Физик Никита Алексеевич Толстой рассказывал мне, что его отец А. Н. Толстой сбежал из Москвы, когда ему предложили возглавить комиссию по плагиату. А дома на вопрос «Кто все же написал «Тихий Дон?», отвечал одно: «Ну уж, конечно, не Мишка!» Александр Твардовский, Федор Абрамов считали вероятной версию заимствования Шолоховым чужих рукописей и материалов. Виктор Шкловский в день смерти Шолохова резюмировал: «Не мог он его написать». Академик Алексеев, близко наблюдавший Шолохова на заседаниях президиума АН СССР говорил своему ученику Александру Лаврову (сегодня тоже академику) теми же словами: «Да ничего этот написать не мог!»
Специально для тех, кто всё еще продолжает считать М. А. Шолохова писателем. Об уровне этого писателя мы можем судить по очерку «Преступная бесхозяйственность» (1932 г.).
Этот «писатель» как в воду глядел: «Возникает угроза дальнейшего продолжения падежа в совхозном стаде…»
Извольте же откушать совхозной мертвечины.
А если будет мало, то вот еще один его «очерк». Только год другой: «По правобережью Дона». 1931.
Этот еще смешнее и страшней: канцелярит взбалтывается в пропорциях 50 на 50 с ученическим (на уровне того третьего класса, который классик так и не осилил) подражанием роману.
Достаточно прочесть вслух первый абзац: «По Верхнему Дону весна началась как будто и рано. На 5 апреля колхозы Вешенского района, в частности левобережная сторона, по песчаным землям, рано обнажившимся от снега, обсеменили 115 га зяби. Но неожиданно с севера подул холодный «московский» ветер, наволочью покрылось небо, запорошил поздний снег, и бригады, выехавшие было на поля и раскинувшие станы, потянулись обратно в хутора. Пятидневка дала ничтожный прирост в 69 га по району».
Здесь три заимствования из романа (рожать что-либо новое классик не приучен): в первом томе есть «Вешенская – вся в засыпи желтопесков», во втором «К утру дул уже московский ветер», в третьем «тучевою наволочью крылось небо». Ровненько так покрал, отщипнул из каждой книги. Так надежней, ибо не так заметно.
О, чего стоит только одно это: «по песчаным землям, рано обнажившимся от снега». (Это как «по телам, обнажившимся от порток».)
http://feb-web.ru/feb/sholokh/texts/sh0/sh8/sh8-092-.htm
http://feb-web.ru/feb/sholokh/texts/sh0/sh8/sh8-080-.htm?cmd=0
ФАЗИЛЬ ИСКАНДЕР О ШОЛОХОВЕ
(отрывок из книги «Думающий о России и американец»)
— Тогда поговорим о литературе. Я преподаю русскую литературу в университете. Что вы думаете о русской литературе советского периода?
— Я считаю, что вся советская литература имеет два направления. Первое — это литература идеологов, их детей и внуков. Второе направление — это литература жертв идеологии, их детей и внуков. Второе направление полностью победило первое. Но были и перебежчики с обеих сторон.
— А что вы думаете о Шолохове и романе «Тихий Дон»? Я прочел горы литературы об этом, но только окончательно запутался.
— Шолохова не было, но он мог быть.
— Загадочный ответ.
— Зато не ловится.
— Но все-таки он написал «Тихий Дон» или кто-нибудь другой?
— Это сейчас в России самый острый политический вопрос. Я на него могу ответить только в присутствии своего адвоката.
— Но я даю вам слово джентльмена, что никогда, нигде не буду ссылаться на вас.
— Хорошо. Я вам верю. У меня одно доказательство — психология пишущего. Это совершенно невозможно подделать. Читая «Тихий Дон», чувствуешь, что его писал отнюдь не молодой человек. Его писал очень сильный и очень усталый от жизни человек, которому не менее сорока лет. Защитникам авторства Шолохова надо было бы прибавить ему лет двадцать, тогда их позиция была бы более убедительна.
Конец цитаты
Фазиль, как всегда, прав. Он отказывал Шолохову в авторстве «Тихого Дона», аргументируя это очень простым соображением: роман написан пером писателя, чей жизненный опыт не может быть опытом двадцатилетнего. Автору как минимум в два раза больше.
Проиллюстрируем это наблюдение.
Текст «Тихого Дона» устроен так, что под живым стеклом самых простых слов может таится бездна.
Вот старик Мелехов отправляется уличать Аксинью в связи с Григорием:
«Пантелей Прокофьевич чертом попер в калитку. Аксинья стала, поджидая его. Вошли в курень. Чисто выметенный земляной пол присыпан красноватой супесью, в переднем углу на лавке вынутые из печи пироги. Из горницы пахнет слежалой одеждой и почему-то – анисовыми яблоками» (1, X, 54).
Начнем с конца абзаца. Почему яблоки анисовые? Очевидно, потому, что в первой редакции Аксинья звалась Анисьей (так в тех черновиках, которые Шолохов копировал). Почему пахнет именно яблоками? Да потому, что плод первородного греха на Руси ассоциировался с яблоком (а не с виноградом, как в средиземноморских странах). Слежалая одежда – это те ветхозаветные «одежды из шкур», которые даются Адаму и Еве при изгнания из рая. Вынутые из печи пироги – одновременно и символ брачного пира, и напоминание о человеческой телесности. Красноватая супесь, которой присыпан земляной пол куреня – эхо адамы, крошки той адамы (красной земли), из которой и слеплен Адам. Почему Пантелей Прокофьевич, стремящийся уличить Аксинью, чертом попер в калитку? Да потому, что перед нами пародия на ветхозаветный гнев Саваофа. Пародия, предупрежденная тем, что Аксинья встречает старика с порожним ведром (дурная примета), а у ног ее кот (непременный спутник классической ведьмы).
В двадцать лет (21) такой плотности культурных ассоциаций не было даже у Пушкина. Тем более ее не могло быть у полуграмотного (с тремя классами образования) юного уголовника Михаила Шолохова.
Ростовский исследователь А. В. Венков заметил, что в начале романа многое (казачья форма с отмененными к 1907 году белыми рубахами, некоторые архаичные особенности воинской службы, фамилии воинских начальников и т. д.) указывают на временной интервал 1901–1907 гг. Федор Крюков родился в 1870-м. Погиб в 1920-м. Свой роман он писал не в двадцать лет, а двадцать лет. Просто с августа четырнадцатого время пошло быстрей.
Вспомним еще раз: «Чем-то батюшка Тихий Дон цветен? /Цветен наш батюшка Тихий Дон вдовами да сиротами…»
Друг Крюкова, пушкинодомский филогог Валадимир Феофилович Боцяновский (1869–1943), во время блокады не просто открыл глаза Борису Викторовичу Томашевскому (мол, ТД написал Крюков!), он еще и не один день излагал коллеге подробности (1890–1957). Они лежали рядом в одной больничной палате. Умирали от голода, а потому времени у них было достаточно. Томашевский выжил. И эти рассказы (не рассказ!) Томашевский поведал жене. Увы, разоблачившая Шолохова филолог Ирина Медведева-Томашевская (1903–1973) именно этих рассказов записать не успела. Трагически погибла в Гурзуфе. После смерти архив ее в одночасье исчез.
Московский журналист Лев Колодный, нашедший в 1990-х шолоховские «черновики», сочинил следующую трогательную историю:
«…В свой день рождения, 24 мая 1924 года, взяв расчет, Михаил Шолохов вернулся на Дон. Не удалось ему поступить на рабфак Московского университета. Не потому, что у него всего четыре (из семи) класса гимназии. Принимали и не таких, были бы за душой “пролетарское происхождение” и путевка комсомола. Но их не нашлось. Пришлось разгружать вагоны, мостить улицы, вести дела в рабочем жилищно-строительном кооперативе “Берите пример”. Председательствовал в нем на общественных началах Лев Мирумов, по должности сотрудник ВЧК, по призванию литератор. Это сблизило столь разных людей, познакомившихся на Дону. В Москве Леон Галустович Мирумян обрусел и стал Левой Мирумовым. Он дал юному другу комнату в Георгиевском переулке, у Тверской, и там же – непыльное место в конторе. Что удалось в столице по большому счету, так это опубликовать в восемнадцать мальчишеских лет три очерка в “Юношеской правде”. Они доказывают без всякого сомнения: дар беллетриста дан был этому юноше свыше. /…/ “Молодой ленинец” первым опубликовал другой прелестный рассказ – “Родинка”. Гонорар позволил вернуться в Москву. Остановился в квартире Мирумова. Друг писал драму “Любовь чекиста”. А Мишка, как все звали тогда Шолохова, сидя с чекистом за одним столом, сочинял “Донские рассказы”, по накалу страстей напоминающие трагедии Шекспира. То сын пускал в распыл отца, то муж отправлял на тот свет жену… Успех в столице окрылил и, вернувшись на Дон, двадцатилетний новеллист засел за роман. С “Тихим Доном” Шолохов появился в Москве осенью 1927 года. /…/Я упоминал в начале чекиста Мирумова, который помог получить юному Шолохову работу и жилье Москве. “Участие в этом Леона Мирумова сильно преувеличено”, — опровергает Кузнецов и этот бесспорный факт. Не нравится ему дружба с чекистом, отмазывает он Шолохова и от связей с вождем, и от связей с НКВД. Но они были, и хорошо, иначе бы многие люди погибли, попав в застенки Лубянки, откуда писатель, пользуясь своим положением и связями, вытаскивал несчастных. Мирумов, пока жил в Москве, дружил с Шолоховым, подарил ему маузер, получив в ответ “Тихий Дон” на французском с автографом.(Лев Колодный. «Тихий Дон» и подонки. «Московский комсомолец». 24 мая 2001):
http://www.mk.ru/editions/daily/article/2001/05/24/108974-tihiy-don-i-podonki.html
Зеев Бар-Селла первым сформулировал то, о чем мало не догадывался. (См. его книгу «Литературный котлован. Проект «Писатель Шолохов». М, 2005).
Писателя Шолохова не было: была рукопись Крюкова и был чекистский проект, который реализовывал Ягода с помощью непосредственных своих подчиненных.
Еще на Дону, в 1923-м, чекист Леон Мирумян завербовал юного уголовника Шолохова (налогового инспектора, которого судили за подчистки ведомостей). Факт донского знакомства Шолохова с Мирумяном подтвердила Мария Шолохова, жена классика.
Мальчишку запугали, имитировав его расстрел, после дали год и под конвоем отправили в Москву, где Шолохов год жил на квартире у Мирумяна на Тверской, в пяти минутах от Кремля. С помощью и под присмотром чекиста он по крюковским материалам сочинял «Донские рассказы», начал печататься в молодежной прессе, перезнакомился с московскими литераторами.
Шолохов был подставным актером, уголовником, приговоренным за приписки в налоговых ведомостях, помилованным, когда ему подделали метрики (снизив возраст на год) и он стал как бы несовершеннолетним. И был завербован Экономическим отделением ОГПУ сыграть роль юного пролетарского гения.
Однако уточним. Никакого чекиста Леона Мирумова тоже не было.
Был чекист Лев Григорьевич Миронов.
http://old.memo.ru/history/NKVD/kto/biogr/gb327.htm
и
http://nkvd.memo.ru/index.php/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
Лев Колодный подробно описал знакомство юного Шолохова с «высокопоставленным чекистом из ЭКУ ОГПУ» (так и сказано!) литератором-дилетантом, автором пьесы «Любовь чекиста» Львом Мироновым. Правда зачем-то превратил его в армянина и соврал, что Миронов якобы умер в Средней Азии во время войны.
Но при этом Колодный сохранил (и за то ему спасибо!) бесценное свидетельство Марии Петровны, жены Шолохова: Шолохов познакомился с Мироновым еще на Дону.
http://profilib.com/…/lev-kolodnyy-kto-napisal-tikhiy-don-k…
Когда? Надо понимать, когда Шолохова судили за приписки, приговорили к расстрелу, но вдруг освободили. Спасла рукопись Крюкова, хранившаяся у Марии Петровны. (Напомню: о том, что вещи и рукопись покойного писателя лежали на чердаке у будущей жены Шолохова летом 2016-го поведала мне живущая ныне в Бельгии Римма Шахмагонова, вдова шолоховского секретаря).
Болотов сообщает важную подробность, неизвестную архивистам. В 1923-м Миронов уже работает в 4-м (снабжение) отделении ЭКУ ОГПУ. И только с 1924-м он переходит в 5-е (внешняя торговля). Именно с 1923 г. «понаехавший» московский безработный Шолохов начинает служить у него делопроизводителем в жилищном кооперативе (Миронов был председателем кооператива на общественных началах).
Ну и женится в Букановской станице на Марии Петровне. (Таково было требование Петра Громославского, ее отца, знакомца и однокашника Крюкова по усть-медведицкой гимназии. А еще на Дону популярна была версия, что именно Мария Петровна донесла на Шолохова в ОГПУ.
Судили. Даже имитировали расстрел, что подтверждал и сам Шолохов (мол, под конвоем водили в ночи до оврага, но привели обратно.)
Правда, признавая факт суда и имитации расстрела, сам Михаил Александрович потом утверждал, что судили его «за превышение должностных полномочий», за справедливость его и милосердие. Можно ведь и так повернуть: вносил в ведомость 17% налога, а потом между единичкой и семеркой вставлял запятую, а единичку правил на четверку.
…А ты докажи, что разницу делили пополам?…
Но после будущий тесть, Громославский якобы сказал: «Мишка, если женишься на Маше, я из тебя человека сделаю!». И выправил фальшивую справку о несовершеннолетии подсудимого.
Конечно, может быть, и врут.
Только без помощи добрейшего Льва Григорьевича не спасла б никакая справка.
…Позже, уже в 30-х, в память о тех славных днях Миронов подарит своему протеже новенький маузер. А юный пролетарский гений преподнесет благодетелю французский перевод «Тихого Дона».
Ну, сами прикиньте: ему-то он зачем? Он и по-русски этой книжки не осилил.
Два товарища в кожанках, Лев Григорьевич Миронов и Георгий Евгеньевич Прокофьев, старые дружки, однокурсники по Киевскому университету. Оба стали чекистами. Первый будет расстрелян в 38-м, второй на год раньше.
О том, что Шолохов завербован Львом Мироновым, в 1923-м работавшим в Экономическом управление ОГПУ, свидетельствует записка курировавшего Шолохова на Дону чекиста Степана Болотова (1928 г.).
См. факсимиле на «Несториане»
А. Ю. Чернов. КРЕПКА, КРЕПКА ПОКОЙНИЦА СОФЬЯ ВЛАСЬЕВНА (О чекисте Михаиле Шолохове)
Из донесения Степана Болотова
ПОЛНОМОЧНОМУ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ ОГПУ СКК И ДССР* тов. Ефиму ЕВДОКИМОВУ
4 сентября 1928. Миллерово):
Уважаемый Ефим Георгиевич… Шолохов имеет дом в Вешенском, купленный им недавно, для того, чтобы иметь возможность работать спокойно над романом именно в Вешках, откуда он черпает для своих произведений богатый сырьевой материал. Большею-же частью он живет в Москве с 1923 года и на родину является лишь периодически. В 1923 году работал в 4 отделении ЭКУ ОГПУ** у МИРОНОВА…
(Цитирую по фотокопиям Пермского «Мемориала». Все снимки из личного архива Болотова. Полностью текст донесения смотри в конце страницы.)
.
Поясню:
*СКК И ДССР – Северо-Кавказский край и Донская Советская Социалистическая Республика.
**ЭКУ ОГПУ – Экономическое управление для ликвидации шпионажа, контрреволюции и диверсий в сфере экономики. Создано в 1923. Начальник – З. Б. Кацнельсон. Позднее его сменил Л. Г. Миронов. Сообщение Болотова о работе Миронова в 4-м отделении (всего лишь «снабжение») уникально. Равно и как его работа на ОГПУ с 1923, а не с 1924 года.
Но именно в 24-м снабженец Миронов переходит в куда более престижное 5-е отделение и становится там большим начальником.
Просто так такого не бывает. Значит, появился некий особый проект, который Миронов ведет и курирует. И проект имеет прямое отношение к внешней торговле.В докладной записке Болотова только одна неточность: он докладывает полномочному представителю ОГПУ на Северном Кавказе Ефиму Георгиевичу Евдокимову (расстрелян в 1940-м), что Шолохов с 1923-го работает в экономическом управлении ОГПУ у Миронова. Но это год донской вербовки, не более. Официально сам Миронов в ОГПУ только с весны 1924-го.
Уже в 1925 году, напечатав несколько слабеньких рассказиков, изготовленных дома у Миронова, Шолохов двадцати лет отроду выезжает с делегацией советских писателей в Германию. (Этого факта в биографиях МШ я не обнаружил, но он есть в заметке Алексадра Мельника о Римме Николаевне Шахмагоновой. См. у меня на «Несториане».)
Итак, сверхсекретный государственный проект. Надо было взрастить пролетарского гения в родном чекистском коллективе. И продать на Запад уже написанный, однако еще не выправленный в нужном партии направлении великий казачий роман.
В феврале 1926 года на должности начальника Экономического управления ОГПУ Миронова сменил Прокофьев.
26 марта 1947 года Степан Болотов застрелился из наградного маузера № 177458, украшенного надписью «За беспощадную борьбу с контр-революцией».
…«Чем-то батюшка Тихий Дон цветен? /Цветен наш батюшка Тихий Дон вдовами да сиротами…» Крюков. «Живые вести». «Донские ведомости» 21 мая (3 июня) 1919.
Ну и напоследок горстка выписок:
.
Александр Шолохов, директор музея-заповедника Михаила Шолохова, внук писателя): «Крюков был честнейший, порядочный человек, если бы он узнал, что Михаила Шолохова обвиняют в плагиате, он бы вызвал наглеца на дуэль! Говорят, что Шолохов якобы переписал рукописи, чтобы сделать плагиат более достоверным. Посмотрите черновики «Тихого Дона», на некоторых вариантах правка на правке, разными чернилами, в разных местах, так, что сложно разобрать первоначальный текст! Чем имитировать такое, проще самому написать роман!»
.
Вл. Бондаренко, патриот и критик: «Шолохов стал одним из символов русскости в культуре, и быть с Шолоховым – это быть русским писателем, быть против Шолохова – просто быть против всего русского. Хочешь быть русским – признай Шолохова!»
.
Юрий Поляков. «Литературная газета», № 20, 2005 г.: «Утратить Шолохова означает для нас в известном смысле примерно то же самое, что потерять Победу во Второй мировой войне…»
Донесение Болотова:
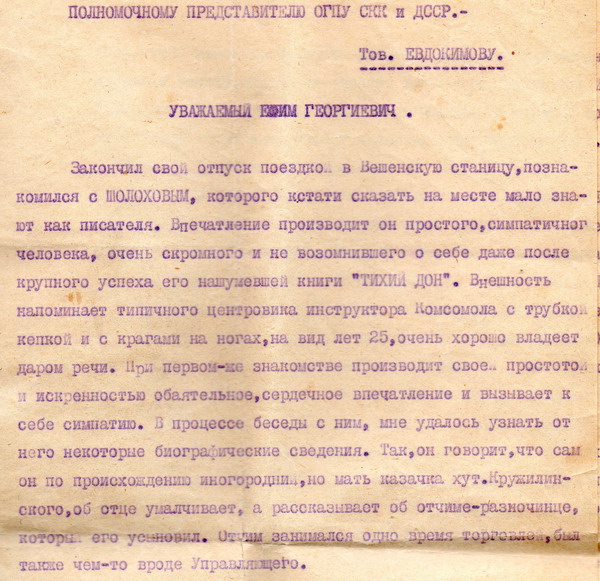
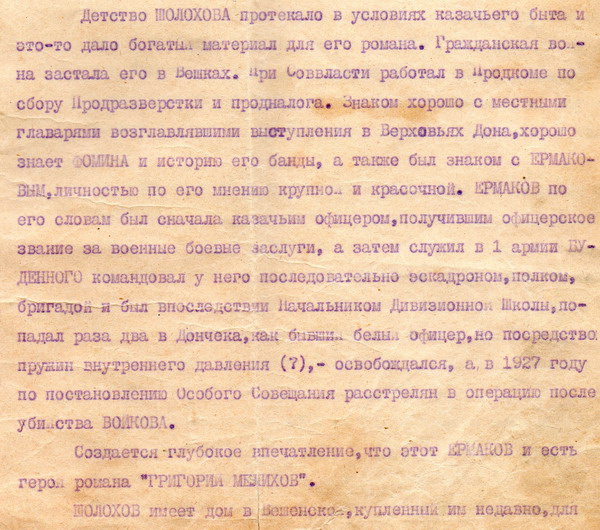
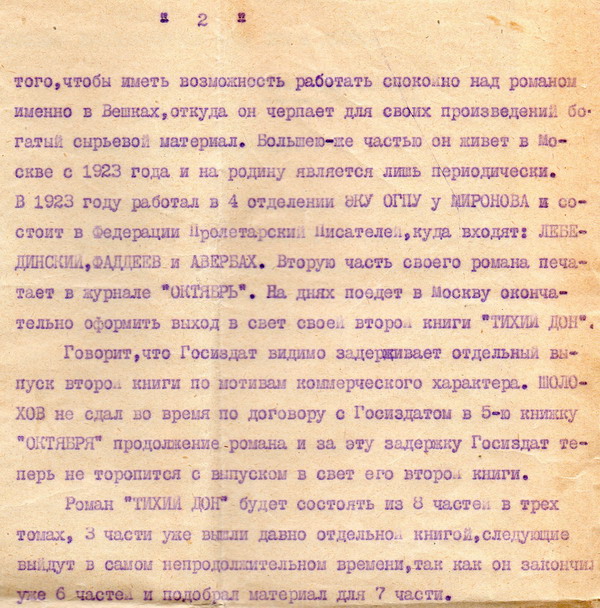
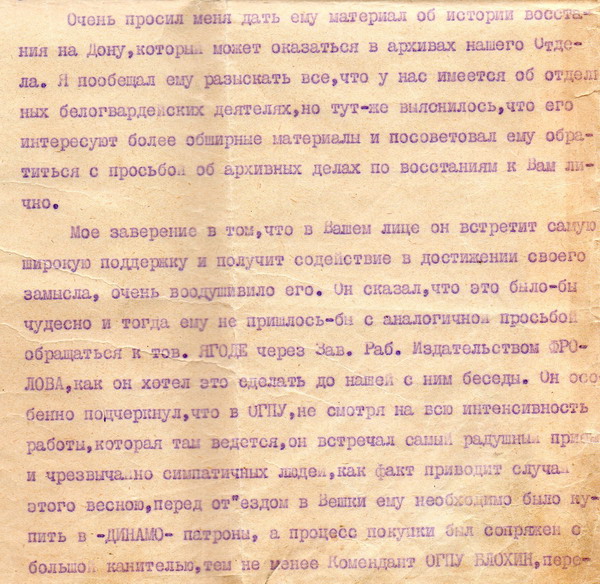
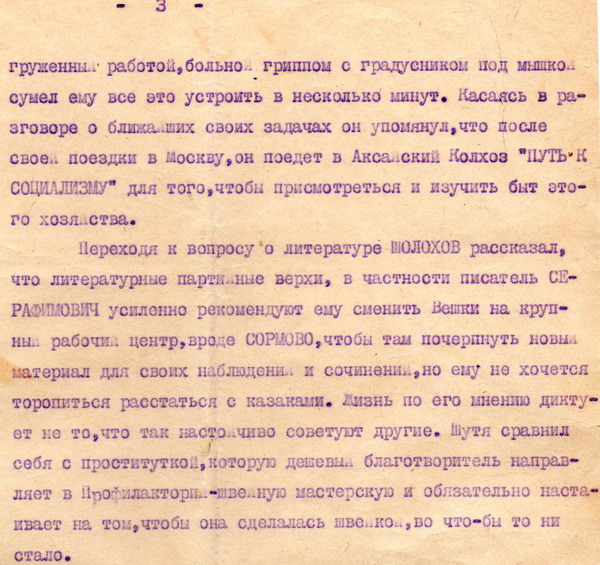
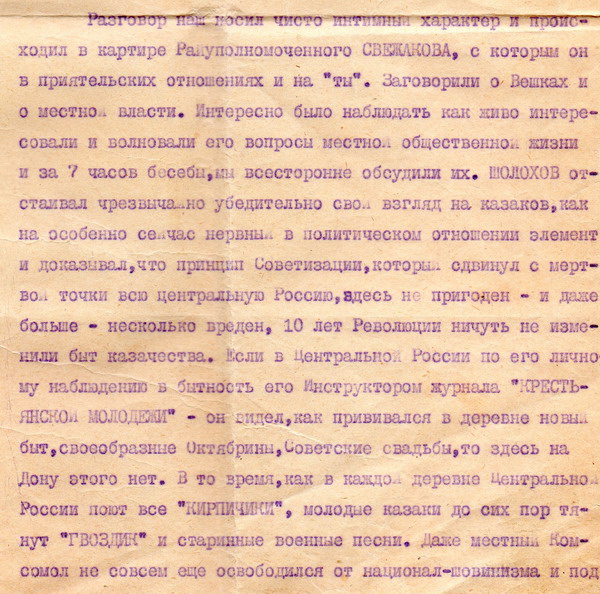
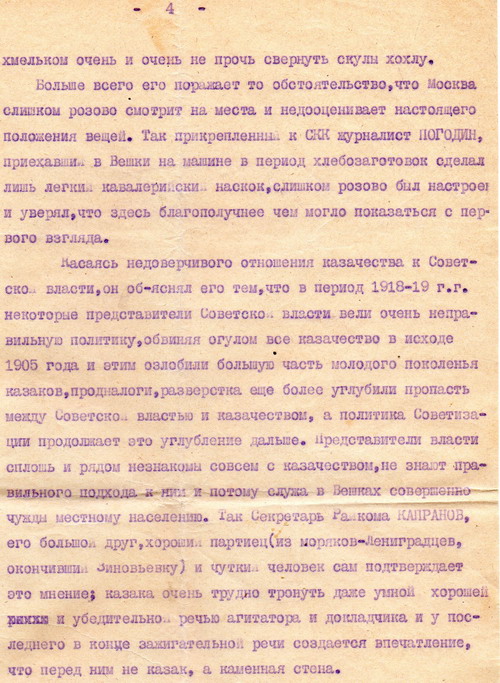
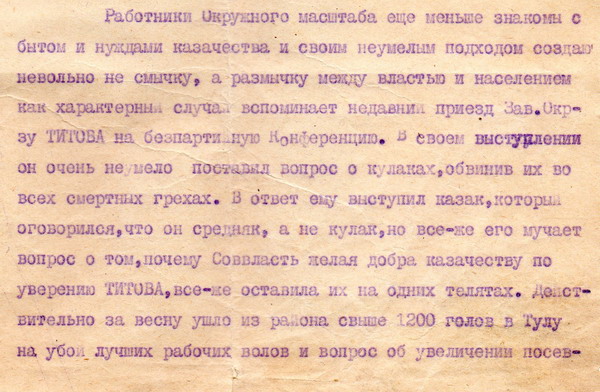
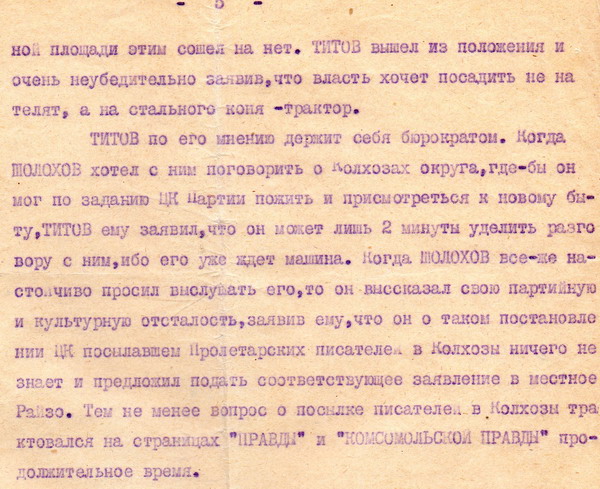
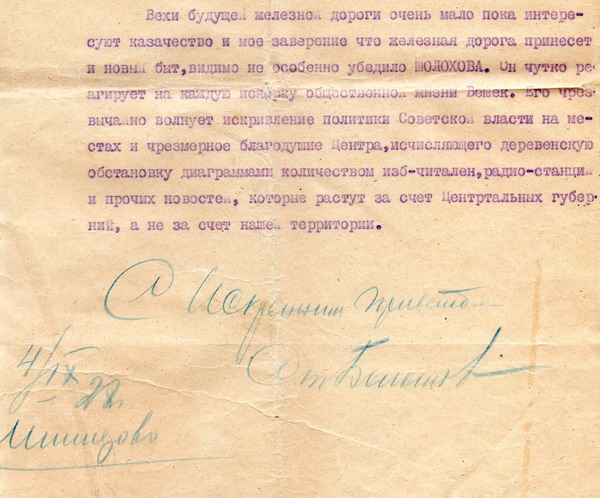 .
.
Донесение Болотова. Архив Рязанского отделения общества «Мемориал». Ф. 8. Оп. 4. Дело 14.
14 февраля 2010 – 3 декабря 2017
Ссылки и сноски:
Первые двенадцать глав «Тихого Дона». Опыт реконструкции протографа:
https://wp.me/s2IpKD-krukov
Словарь параллелей прозы Крюкова и «Тихого Дона» выложен на сайте:
http://fedor-krjukov.narod.ru/index.htm
ТУТ МАТЕРИАЛЫ ПО КРЮКОВУ, «ТИХОМУ ДОНУ» И ШОЛОХОВУ НА «НЕСТОРИАНЕ»:
https://nestoriana.wordpress.com/category/%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80-%D0%BA%D1%80%D1%8E%D0%BA%D0%BE%D0%B2/
[1] Иное мы слышим в это время от Горького. В статье «О писателях-самоучках» (1911) он, обращаясь к начинающим писателям, пишет: «Почитайте Муйжеля, Подъячева, Крюкова, – они современники ваши, они не льстят мужику. Но посмотрите, поучитесь, как надо писать правду!»).
[2] Цитаты из «Тихого Дона» даны по изданию: Шолохов М. А. [Тихий Дон: Роман в четырех книгах]. // Шолохов М. А. Собрание сочинений: В 8 т. – М., 1956–1960:
http://feb-web.ru/feb/sholokh/default.asp?/feb/sholokh/texts/sh0/sh0.html
[3] Выделены строки, совпадающие (или почти совпадающие) с вариантом «Тихого Дона» (см. последний из примеров).
[4] Заметим, что здесь эпитет «Тихий» пишется с прописной буквы, так же как в раннем очерке Крюкова «На Тихом Дону».
[5] Этот текст опубликован Светланой и Андреем Макаровыми лишь в нынешнем столетии: Булавинский бунт (1707–1708). Этюд из истории отношений Петра Великого к Донским казакам. Неизвестная рукопись Федора Крюкова из Донского архива писателя. М.– СПб. 2004. С. 178. Факсимильное воспроизведение с. 180.
[6] Впрочем, нелепые в контексте гражданской войны слова «против русского народа» – творчество кого-то из советских редакторов. В оригинале было что-то вроде «разбитые в этой бесславной войне».
Сокращения:
ДС – Большой толковый словарь Донского казачества. М, 2003.
НКРЯ – Национальный корпус русского языка (электронный):
http://www.ruscorpora.ru/
СРНГ – Словарь русских народных говоров. Вып. 1 – 43. 1965 – 2010 (есть в сети).
ПРИЛОЖЕНИЕ
Федор Крюков
ТИХИЙ ДОН
Реконструкция первых двенадцати глав протографа
Просматривая карты и космические снимки Дона, поневоле приходишь к выводу, что топографический прототип хутора Татарского расположен в шестидесяти верстах восточней Вешенской. Итак, хутор Хованский, само имя которого – тайный поклон от хованщины, первой искры русской буржуазно-демократической революции и первой попытки ввести в России парламентское устройство. Дело однако не в имени. Просто это место и по реалиям, и по пропорциям, и по абсолютным расстояниям идентично описанному в романе. И другого такого на Дону не существует.
Позволим внимательному читателю самостоятельно увериться в этом:
Хутор Хованский – в двенадцати верстах от Усть-Медведицкой станицы, на запад по Гетманскому шляху. От ветров он укрыт с юга меловой горой, а перед ним высокий обрыв и песчаная (так на картах!) коса, отделенная ериком, полузаросшей протокой из Дона в Дон. На одних картах коса изображена как остров, на других как полуостров.
Левый берег – неудобь: Обдонский лес, буреломы, голощечины, ендовы, пески. Здесь, как раз против куреня Мелеховых, – то, что в романе названо Прорвой. Это редкое слово, не попавшее даже в донские словари, но его знает Словарь русских народных говоров (с пометой Дон). Прорва – промыв берега, место, где река промыла себе новое русло. Еще одно донское значение – прореха. Ну а в ТД это сухое русло, ведущее к Дону от длинного и узкого, ятаганообразного озера. Наполняется и оживает Прорва лишь во время весны воды да летних ливней. Тогда она урчит и гремит так, что ее слышно и от куреня Мелеховых (а это как минимум полверсты).
Для Крюкова Прорва – слово родное. Так звали речку его детства, речку-трудягу, текущую мимо Глазуновской станицы: «Узенькая такая речка вроде Прорвы с зацветшей, покрытой плесенью водой, а над речкой вишневые сады и сизые, задумчивые вербы слушают, как колеса кряхтят, вода кипит и бурлит, и смотрят, как солнце ловит брызги, зеленые, как осколки бутылки» [Ф. Д. Крюков. Мечты // «Русское Богатство», 1908].
Начнем со схемы (все картинки кликабельны!):

…Выложил пост с географической привязкой хутора Татарского к реальному хутору Хованскому. И подтвержденную картографическими реалиями свою интерпретацию: Хованский – прототип мелеховского хутора в «Тихом Доне». Другого такого места на Дону просто нет.
Получил ответ от петербургского библиографа Игоря Шундалова. Он обнаружил, что ятаганообразное озерцо западней Татарского, которое в романе именуется Царевым прудом, на карте 1870 г. названо Царицыным ильменем (в переводе с донского Царицыным озером).

Озеро именно такое, как описано в романе – в двух-трех верстах восточней хутора, на самом берегу Дона, отделенное от реки лишь песчаным увалом. И находится, как сообщает сотник Листницкий, в полутра сотнях верст от станции. Станция – железнодорожная станция Миллерово, в романе она мелькает не раз. Впрочем, по этой привязке подойдет и хутор вблизи Вешенской станицы.
А вот координаты Царева пруда в романе:
«Посмеиваясь, Григорий оседлал старую, оставленную на племя матку и через гуменные ворота — чтоб не видел отец – выехал в степь. Ехали к займищу под горой. Копыта лошадей, чавкая, жевали грязь. В займище возле высохшего тополя их ожидали конные: сотник Листницкий на поджарой красавице кобылице и человек семь хуторских ребят верхами.
– Откуда скакать? – обратился к Митьке сотник, поправляя пенсне и
любуясь могучими грудными мускулами Митькиного жеребца.
– От тополя до Царева пруда.
– Где это Царев пруд? – Сотник близоруко сощурился.
– А вон, ваше благородие, возле леса.
Лошадей построили. Сотник поднял над головою плетку. Погон на его плече вспух бугром.
– Как скажу «три» – пускать! Ну? Раз, два… три!
Первый рванулся сотник, припадая к луке, придерживая рукой фуражку. Он на секунду опередил остальных. Митька с растерянно-бледным лицом привстал на стременах – казалось Григорию, томительно долго опускал на круп жеребца поднятую над головой плеть».
От тополя да Царева пруда – версты три. Это уже в девятнадцатом, когда началось антибольшевистское восстание, Крюков переносит мелеховский хутор ближе к Вешенской. А в первом варианте романа говорящим для него было имя Хованский (1682 год, стрелецкий бунт, возглавленный Иваном Хованским, первая попытка учредить на Руси парламент).
Описав некую конкретную местность, но назвав ее другим именем, художник рассчитывает на читательское узнавание и на припоминание реального имени. Так произошло и в этом случае. Дело в имени хутора, отсылающего к целому комплексу литературных и исторических воспоминаний, весьма актуальных. Но, разумеется, в том случае, когда само непроизнесенное имя является знаковым. Так получилось у Крюкова с хутором Хованским.
След переноса хутора к Вешенской углядел исследователь А. В. Венков: «Прохор Зыков (часть 6, гл. LIV) движется из Татарского вдоль Дона на запад (вверх по течению) и проезжает хутор Рубежин, который относится не к Вёшенской, а к Еланской станице, Вёшенский юрт начинается ещё выше (западней). Соответственно, Татарский находится ещё восточней Рубежина и тем более относится не к Вёшенской, а к Еланской или даже ещё более нижней – Усть-Хопёрской станице».
Ну а В. И. Самарин указал, что земляк главных героев купец Мохов проживает в станице, находящейся «неподалёку от устья Хопра».
Так и вышло.
Но то, что название аукнулось столь внятно: Хованский – скачка наперегонки по займищу до Царева (!) пруда, в которой дворянин Листницкий проигрывает завтрашнему карателю и палачу Митьке Коршунову.
Такого, честно говоря, я даже и не ожидал.
Знал, что при общей сумме совпадений ошибки быть не может. И всё равно сижу малость потрясенный.
Кстати, карта с Царицыным озером 1870 года. В этом году и родился Федор Дмитриевич Крюков. Так что гидрониму Царицин ильмень можно верить. Другое дело, что Крюкову тут нужен был именно Царев пруд. Как в названии хутора уже во аремя гражданской войны понадобилось имя татарника, несгибаемого, колючего цветка, воспетого сначала Львом Толстым, а потом и Федором Крюковым. В середине ноября 1919 года он пишет:
«И я вспоминаю прекрасный образ, который нашел великий писатель земли русской в «Хаджи-Мурате» для изображения жизнестойкой энергии и силы противодействия той девственной и глубокими корнями вошедшей в родимую землю человеческой породы, которая изумила и пленила его сердце беззаветной преданностью своей, – светок-татарник… Он один стоял среди взрытого, борожденного поля, черного и унылого, один, обрубленный, изломанный, вымазанный черноземной грязью, все еще торчал кверху. «Видно было, что весь кустик был переехан колесом и уже после поднялся и потому стоял боком, но все-таки стоял, – точно вырвали у него кусок тела, вывернули внутренности, оторвали руку, выкололи глаза, но он все стоит и не сдается человеку, уничтожившему всех его братьев кругом его»…
Необоримым цветком-татарником мыслю я и родное свое казачество, не приникшее к пыли и праху придорожному в безжизненном просторе распятой родины, отстоявшее свое право на достойную жизнь и ныне восстановляющее единую Россию, великое отечество мое, прекрасное и нелепое, постыдно-досадное и невыразимо дорогое и близкое сердцу».
А вот гугловский снимок Хованского и его окрестностей:
От западного края хутора до «колена» Дона четыре версты, от восточного конца до дальнего пруда – три (всё, как в романе). Дальше еще около двух верст до огромного хуторского луга и «Алешкина перелеска» (на военной карте 1990 г. здесь отмечен дубовый лес; так и в ТД), еще восточней – Красный яр и брод через Дон (историческое название – Хованский перелаз). Отсюда старик Мелехов крестится перед покосом на восток, «на беленький стручок далекой колокольни». Это господствующая над округой шатровая колокольня церкви Воскресения Господня (1782 год), старейшая постройка на краю Усть-Медведицкой станицы (до нее от луговой деляны Мелеховых верст восемь). Причем с мелеховского луга видна только смотрящая на запад колокольня, которая закрывает собой тело храма.

Колокольня Воскресенской церкви над береговым обрывом Усть-Медведицкой станицы («беленький стручок»). Архивное фото.
Обратимся к генштабовской двухкилометровке 1990 г.

Колокольня (ищи красную отметку «+») прекрасно просматривается от Хованского перелаза (отметка – красная буква «Х»), ведь перепад высот правого и левого берегов достаточно велик.
* * *
Так случилось, что последовательность первых глав первой части романа (со второй по восьмую) оказалась инвертирована: ни редактор Серафимович, ни назначенный в авторы юный плагиатор, не сумели корректно восстановить авторскую архитектуру текста.
Подобные ошибки топорного, насильственного монтажа обнаружены и в других частях романа, об этом см., в частности, в публикациях Алексея Неклюдова: http://tikhij-don.narod.ru
Как такое могло произойти – вопрос праздный.
Неполная «рукопись» романа («черновики» и «беловики»), спешно изготовленная Шолоховым весной 1929 г. для «комиссии по плагиату», не только уличает ее изготовителей, но и дает представление о подлинных черновиках «Тихого Дона». Механически воспроизводя первую авторскую редакции, неискушенные в текстологии монтажники середины 1920-х не заметили, что подлинный автор существенно переработал начальную редакцию романа и последовательность глав несколько изменилась.
В конце апреля 2010 года в эпистолярной дискуссии о хронологии романа московский исследователь Савелий Рожков предположил, что первые восемь страниц с историей рода Мелеховых и утренней рыбалкой в протографе располагались после сцены ночной рыбалки (и до покоса), а рыбалка с отцом и продажа сазана купцу Мохову приходится на день Троицы. (И гусь, и сазан в этот день оказываются весьма кстати. Как и «праздничная рубаха»… Но есть и другие, не косвенные, а прямые указания. О них ниже.)
Помимо Рожкова участие в той дискуссии приняли Алексей Неклюдов и автор этой заметки. Проверив предположение коллеги, я убедился и в корректности, и в необходимости перенесения сцены утренней рыбалки (но не истории рода Мелеховых).
Как выяснилось, логика авторского сюжета ТД способна постоять за себя сама. При этом абсурдная система хронологических отсылок выстраивается в четкую, простую временную последовательность.
* * *
Во II главе перед тем, как начать удить сазанов, Григорий обменивается с отцом такими репликами: «– Куда править? – К Черному яру. Спробуем возле энтой ка́рши, где надысь сидели» (с. 14).
Обратимся к шолоховским «черновикам». Григорий говорит: «– За что серчаешь, Аксютка? Неужели за надышные, что в займище?..» (с. 28). Иное в издании ТД, которое осуществлялось в более исправного списка: «– За что серчаешь, Аксютка? Неужели за надышнее, что в займище?..» (ТД: 1, VIII, 48).
Нады’шний – третьего дня (ДС). По СРНГ 1. на днях, недавний; 2. Прошлый, минувший. От диалектного надысь: «Эта уш на третий день – ни вщира, ни позавщира, а надысь» (ДС). Ну а на’дышный – нужный (ДС), от надо. Переписчик не вдумывается в смысл и потому путает «е» с «ы». (В протографе после «д» шло подряд аж девять «крючков», столь похожих друг на друга в продвинутых почерках.)
Но что за надышняя карша и что это за яр, о которых говорит старик Мелехов?
А вот они. В IV (!) главе Аксинья советует:
«– Гриша, у берега, кубыть, карша. Надоть обвесть.
Страшный толчок далеко отшвыривает Григория. Грохочущий всплеск, будто с яра (курсив мой. – А. Ч.) рухнула в воду глыбища породы» (с. 33).
У этой карши (у затонувшего вяза) и сидят, штопая прорванный сомом бредень, Григорий и Аксинья. Оттого и нарываются на вопрос прибежавшей с косы Дуняшки: «– Вы чего ж тут сидите? Батянька прислал, чтоб скорей шли к косе».
Это «сидение» и напомнит старик сыну через три дня на утренней рыбылке: «– Куда править? – К Черному яру. Спробуем возле энтой ка́рши, где надысь сидели» (с. 14).
…И где обнаружилась прореха в бредне, который вели Григорий с Аксиньей, и где Гришка чуть не утонул. И где он едва не соблазнил жену соседа.
Григорий не знает, что отец все видел из кустов боярышника, а потому и велит теперь сыну править на место того, едва не случившегося преступления.
Вот почему на третий день после той, ночной рыбалки, Пантелей Прокофьевич, уже обряженный в праздничную рубаху, передумал идти в церковь. Именно там, у затонувшей карши, он должен прочитать сыну отцовское наставление, именно там его мораль будет наиболее действенна.
Но почему для ночной рыбалки было выбрано именно то место?
В апреле-мае на Дону нерестится стерлядь. Она выбирает для этого «нерестовые ямы» – омуты с песчаным и галечным дном (как раз такое, с «нацелованной галькой» возле косы у хутора Татарского). Именно за стерлядью и ведет охоту многоопытный старик Мелехов.
(О локализации Черного Яра см. выписку в конце этого текста.)
Вся IV глава посвящена ночной рыбалке бреднем, в бурю. Тут же и та копна, в которой Аксинья отказала Григорию, а хитрый Пантелей наблюдал за этим, выжидая в зарослях боярышника.
* * *
Итак, через два дня на третий старик решается поговорить с сыном и зовет того порыбалить удочками. При этом на старике «праздничная рубаха». Так в шолоховской имитации «черновика» на с. 9, копирующей протограф; в издании же куда глуше, но тоже с намеком – рубаха «шитая крестиком» (!)
Дело происходит в Троицу. В какой другой день прижимистый купец Мохов точно купит свежего сазана, а ктитор утром, но уже после службы, то есть часов в 11, у церковной ограды будет устраивать аукцион с гусем?
После рыбалки отец и сын встречают расходящийся от обедни народ и видят, как в из церковной ограде ктитор торгует гусем.
«На площади у церковной ограды кучился народ. В толпе ктитор, поднимая над головой гуся, выкрикивал: «Полтинник! От-да-ли. Кто больше?»
Гусь вертел шеей, презрительно жмурил бирюзинку глаза» (с. 19).
Почему именно полтинник?
Да потому, что полтинник – 50 коп., а Троица – это Пятидесятница.
Необходимость переноса II (по Шолохову) главы на место VIII подтверждается и началом следующей, IX главы:
«От Троицы только и осталось по хуторским дворам: сухой чобор, рассыпанный на полах, пыль мятых листьев да морщиненая, отжившая зелень срубленных дубовых и ясеневых веток, приткнутых возле ворот и крылец. С Троицы начался луговой покос…»
Итак, хронология:
10 мая, за три дня до Троицы (13/26 мая 1912) – рыбалка бреднем в займище у карши. Григорий чуть не утонул. В копне он пристает к Аксинье. Гл. IV.
С. Л. Рожков полагает, день выбран не случайно – он попадает на семик (древний русалочий праздник, отмечается на седьмой день после праздника Вознесения Господня). И с этим трудно спорить. В семик у Черного яра Аксинья (натура сугубо русалочья) едва не утопила Григория.
«Два дня до Троицы» – хуторские делят луг. Гл. VIII начало.
День до Троицы («на другой день утром») – скачки, Григорий извиняется «за надышнее (позавчерашнее) в займище» Гл. VIII продолжение.
Троица: Пантелей Прокофьевич зовет сына на рыбалку и ссылается за каршу, у которой надысь (третьего дня) сидели. Гл. II.
* * *
Новая нумерация дана римскими цифрами, выделенными п/ж, нумерация по шолоховскому изданию – в скобках. Звездочками отмечены подглавки, не имеющие нумерации. Они каждый раз идут как дополнение к обозначенной цифрой главе.
I (I). История рода Мелеховых. Прокофий и смерть его жены после рождения Пантелея. * * * Семья Пантелея.
II (III). Григорий пришел с игрищ под утро. Поит коня брата, которому сегодня идти на службу. По просьбе матери Григорий будит Степана и Аксинью Астаховых. * * * Проводы казаков в майские лагеря. Григорий второй раз поит коня (Ошибка при сведении черновиков.) Григорий заигрывает с Аксиньей. Казаки уходят в лагеря.
Последнее описано глазами Григория: «Рослый вороной конь качнулся, подняв на стремени седока. Степан выехал из ворот торопким шагом, сидел в седле, как врытый, а Аксинья шла рядом, держась за стремя, и снизу вверх, любовно и жадно, по-собачьи заглядывала ему в глаза».
Но на с. 18 «черновика» после слов Пантелея Прокофьевича, сказанных в день ночной рыбалки («– Аксинью Степанову кликнем, пособить Степан надысь просил скосить ему, надо уважить») следуют перечеркнутые синим карандашом строки: «Григорий нахмурился, но в душе обрадовался отцовым словам. Аксинья не выходила у него из ума. Весь день перебирал он в памяти утренний разговор с нею, перед глазами мельтешилась ее улыбка, и тот любовно-собачий взгляд снизу вверх, каким она глядела провожая мужа…»
То есть и проводы казаков, и поздняя рыбалка происходят в семик (четверг) 10/23 мая 1912. На что указывает и «надысь», произнесенное стариком Мелеховым после «растряски» луга за два дня до Троицы (в 1912-м она пришлась на 13/26 мая; см. ниже).
III (V). Петро Мелехов и Степан Астахов едут на сборы.
IV (VI). Ночевка едущих на сборы казаков.
Начинается: «Возле лобастого, с желтой песчаной лысиной кургана остановились ночевать. С запада шла туча». Эта гроза будет описана и в следующей главе: «Туча шла вдоль по Дону с запада» (с. 19 рукописи).
V (IV). (Три дня до Троицы. Четверг 7-ой седмицы по Пасхе. Семик. Русалочья неделя, великий четверг 10/23 мая) «К вечеру собралась гроза». Имеется в виду вечер после отъезда казаков в лагеря. В издании эта первая фраза IV главы звучит так, как исправлено в черновике: «[На другой день] К вечеру собралась гроза» (с. 29). По рукописи старик Мелехов произносит: «– Степан надысь просил скосить ему» (с. 18). Так и в издании (с. 44).
Вечерняя гроза, рыбалка бреднем в займище у Черного яра близ карши, надалеко от косы. Аксинья отвергает Григория. Пантелей Прокофьевич из зарослей боярышника все видит.
VI (VII). История жизни Аксиньи. (Заканчивается фразой: «После рыбалки бреднем…»)
VII (VIII). «За два дня до Троицы хуторские делили луг» (в пятницу). От этого дня «надысь» (позавчера, в среду, то есть накануне отправки в лагеря) Степан просил старика Мелехова «скосить ему». На другой день (в субботу, за день до Троицы) Митька Коршунов будит Григория. Скачки с Листницким. Разговор Григория и Аксиньи. Григорий просит прощения за «надышнее в займище», то есть приставание на рыбалке, которая была позавчера, в четверг.
VIII (II). Пантелей Прокофьевич едет с сыном Григорием на рыбалку. (Троица, 13/26 мая 1912). И определяет место рыбалки у Черного яра: «возле энтой ка́рши, где надысь сидели», то есть в Семик, три дня назад. * * * Рыбалка. Поймали сазана. Объяснение отца с сыном. Митька Коршунов. («От обедни рассыпался по улицам народ […] На площади у церковной ограды кучился народ. В толпе ктитор, поднимая над головой гуся, выкрикивал: «Полтинник! От-да-ли. Кто больше?».) Братья Шамили. Купец Сергей Платонович Мохов и его дочь.
IX. Луговой покос начался «с Троицы» (на другой день после Троицы). * * * На покосе Григорий соблазняет Аксинью.
X. Купец Мохов раскрывает глаза Пантелею Прокофьевичу на роман Григория с Аксиньей. Объяснение старика-Мелехова с Аксиньей и с Григорием. Старик побил сына.
XI. Лагеря. Степан узнает об измене Аксиньи.
XII. Девять дней до прихода Степана. Григорий и Аксинья.
…………………………………………………………
Сокращения:
ТД – «Тихий Дон»
ДС – Большой толковый словарь Донского казачества. М., 2003.
Ниже – реконструкция последовательности первых двенадцати глав «Тихого Дона».
Текст по изданию: Шолохов М. А. [Тихий Дон: Роман в четырех книгах]. // Шолохов М. А. Собрание сочинений: В 8 т. – М., 1956–1960:
http://feb-web.ru/feb/sholokh/default.asp?/feb/sholokh/texts/sh0/sh0.html
Андрей Чернов
Ф. Д. КРЮКОВ
ТИХИЙ ДОН
книга первая
* * *
Ой ты, наш батюшка тихий Дон!
Ой, что же ты, тихий Дон, мутнехонек течешь?
Ах, как мне, тиху Дону, не мутну течи!
Со дна меня, тиха Дона, студены ключи бьют,
Посередь меня, тиха Дона, бела рыбица мутит.
(Старинная казачья песня)*
* В шолоховском издании по редакторскому недосмотру этому «мирному» эпиграфу предшествует другой, «ратный» («Не сохами-то славная зем[е]люшка наша распахана…») Хотя по логике он должен открывать оставшуюся без эпиграфа вторую, военную книгу. Эпиграф к третьей книге (также ратной) соответствует ее содержанию. Эпиграф к оставшейся в черновиках 7 части романа неизвестен, но вероятно, эта часть должна была войти в третий том, разросшийся от многочисленных цитат из позднейших белогвардейских мемуаров и партийных большевистских статей. В этом случае логика трех томов (и эпиграфов к ним) столь же очевидна, как и полемика с XIX веком, веком Льва Толстого: формула новейшего времени не Война и Мир, а Мир — Война — Гражданская война. 8 часть целиком принадлежит советским имитаторам. (Прим. А. Ч.)
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
I
Мелеховский двор — на самом краю хутора. Воротца со скотиньего база ведут на север к Дону. Крутой восьмисаженный спуск меж замшелых в прозелени меловых глыб, и вот берег: перламутровая россыпь ракушек, серая изломистая кайма нацелованной волнами гальки и дальше — перекипающее под ветром вороненой рябью стремя Дона. На восток, за красноталом гуменных плетней, — Гетманский шлях, полынная проседь, истоптанный конскими копытами бурый, живущо́й придорожник, часовенка на развилке; за ней — задернутая текучим маревом степь. С юга — меловая хребтина горы. На запад — улица, пронизывающая площадь, бегущая к займищу.
В последнюю [кавказскую] кампанию вернулся в хутор казак Мелехов Прокофий. Из Туретчины привел он жену — маленькую, закутанную в шаль женщину. Она прятала лицо, редко показывая тоскующие одичалые глаза. Пахла шелковая шаль далекими неведомыми запахами, радужные узоры ее питали бабью зависть. Пленная турчанка сторонилась родных Прокофия, и старик Мелехов вскоре отделил сына. В курень его не ходил до смерти, не забывая обиды.
Прокофий обстроился скоро: плотники срубили курень, сам пригородил базы для скотины и к осени увел на новое хозяйство сгорбленную иноземку-жену. Шел с ней за арбой с имуществом по хутору — высыпали на улицу все от мала до велика. Казаки сдержанно посмеивались в бороды, голосисто перекликались бабы, орда немытых казачат улюлюкала Прокофию вслед, но он, распахнув чекмень, шел медленно, как по пахотной борозде, сжимал в черной ладони хрупкую кисть жениной руки, непокорно нес белесо-чубатую голову, — лишь под скулами у него пухли и катались желваки да промеж каменных, по всегдашней неподвижности, бровей проступил пот.
С той поры редко видели его в хуторе, не бывал он и на майдане. Жил в своем курене, на отшибе у Дона, бирюком. Гутарили про него по хутору чудно́е. Ребятишки, пасшие за прогоном телят, рассказывали, будто видели они, как Прокофий вечерами, когда вянут зори, на руках носил жену до Татарского, ажник, кургана. Сажал ее там на макушке кургана, спиной к источенному столетиями ноздреватому камню, садился с ней рядом, и так подолгу глядели они в степь. Глядели до тех пор, пока истухала заря, а потом Прокофий кутал жену в зипун и на руках относил домой. Хутор терялся в догадках, подыскивая объяснение таким диковинным поступкам, бабам за разговорами поискаться некогда было. Разно гутарили и о жене Прокофия: одни утверждали, что красоты она досель невиданной, другие — наоборот.
Решилось все после того, как самая отчаянная из баб, жалмерка Мавра, сбегала к Прокофию будто бы за свежей накваской. Прокофий полез за накваской в погреб, а за это время Мавра и разглядела, что турчанка попалась Прокофию последняя из никудышних…
Спустя время раскрасневшаяся Мавра, с платком, съехавшим набок, торочила на проулке бабьей толпе:
— И что он, милушки, нашел в ней хорошего? Хоть бы баба была, а то так… Ни заду, ни пуза, одна страма. У нас девки глаже ее выгуливаются. В стану — перервать можно, как оса; глазюки — черные, здоровющие, стригеть ими, как сатана, прости бог. Должно, на-сносях дохаживает, ей-бо!
— На-сносях? — дивились бабы.
— Кубыть не махонькая, сама трех вынянчила.
— А с лица как?
— С лица-то? Желтая. Глаза тусменныи, — небось, не сладко на чужой сторонушке. А ишо, бабоньки, ходит-то она… в Прокофьевых шароварах.
— Ну-у?.. — ахали бабы испуганно и дружно.
— Сама видала — в шароварах, тольки без лампасин. Должно, буднишние его подцепила. Длинная на ней рубаха, а из-под рубахи шаровары, в чулки вобратые. Я как разглядела, так и захолонуло во мне…
Шепотом гутарили по хутору, что Прокофьева жена ведьмачит. Сноха Астаховых (жили Астаховы от хутора крайние к Прокофию) божилась, будто на второй день Троицы, перед светом, видела, как Прокофьева жена, простоволосая и босая, доила на их базу корову. С тех пор ссохлось у коровы вымя в детский кулачок, отбила от молока и вскоре издохла.
В тот год случился небывалый падеж скота. На стойле возле Дона каждый день пятнилась песчаная коса трупами коров и молодняка. Падеж перекинулся на лошадей. Таяли конские косяки, гулявшие на станичном отводе. И вот тут-то прополз по проулкам и улицам черный слушок…
С хуторского схода пришли казаки к Прокофию.
Хозяин вышел на крыльцо кланяясь.
— За чем добрым пожаловали, господа старики?
Толпа, подступая к крыльцу, немо молчала.
Наконец, один подвыпивший старик первый крикнул:
— Волоки нам свою ведьму! Суд наведем!..
Прокофий кинулся в дом, но в сенцах его догнали. Рослый батареец, по уличному прозвищу — Люшня, стукал Прокофия головой о стену, уговаривал:
— Не шуми, не шуми, нечего тут!.. Тебя не тронем, а бабу твою в землю втолочим. Лучше ее унистожить, чем всему хутору без скотины гибнуть. А ты не шуми, а то головой стену развалю!
— Тяни ее, суку, на баз!.. — гахнули у крыльца.
Полчанин Прокофия, намотав на руку волосы турчанки, другой рукой зажимая рот ее, распяленный в крике, бегом протащил ее через сени и кинул под ноги толпе. Тонкий вскрик просверлил ревущие голоса.
Прокофий раскидал шестерых казаков и, вломившись в горницу, сорвал со стены шашку. Давя друг друга, казаки шарахнулись из сенцев. Кружа над головой мерцающую, взвизгивающую шашку, Прокофий сбежал с крыльца. Толпа дрогнула и рассыпалась по двору.
У амбара Прокофий настиг тяжелого в беге батарейца Люшню и сзади, с левого плеча наискось, развалил его до пояса. Казаки, выламывавшие из плетня колья, сыпанули через гумно в степь.
Через полчаса осмелевшая толпа подступила ко двору. Двое разведчиков, пожимаясь, вошли в сенцы. На пороге кухни, подплывшая кровью, неловко запрокинув голову, лежала Прокофьева жена; в прорези мученически оскаленных зубов ее ворочался искусанный язык. Прокофий, с трясущейся головой и остановившимся взглядом, кутал в овчинную шубу попискивающий комочек — преждевременно родившегося ребенка.
* * *
Жена Прокофия умерла вечером этого же дня. Недоношенного ребенка, сжалившись, взяла бабка, Прокофьева мать.
Его обложили пареными отрубями, поили кобыльим молоком и через месяц, убедившись в том, что смуглый турковатый мальчонок выживет, понесли в церковь, окрестили. Назвали по деду Пантелеем. Прокофий вернулся с каторги через двенадцать лет. Подстриженная рыжая с проседью борода и обычная русская одежда делали его чужим, непохожим на казака. Он взял сына и стал на хозяйство.
Пантелей рос исчерна-смуглым, бедовым. Схож был на мать лицом и подбористой фигурой.
Женил его Прокофий на казачке — дочери соседа.
С тех пор и пошла турецкая кровь скрещиваться с казачьей. Отсюда и повелись в хуторе горбоносые, диковато-красивые казаки Мелеховы, а по-уличному — Турки.
Похоронив отца, въелся Пантелей в хозяйство: заново покрыл дом, прирезал к усадьбе с полдесятины гулевой земли, выстроил новые сараи и амбар под жестью. Кровельщик по хозяйскому заказу вырезал из обрезков пару жестяных петухов, укрепил их на крыше амбара. Веселили они мелеховский баз беспечным своим видом, придавая и ему вид самодовольный и зажиточный.
Под уклон сползавших годков закряжистел Пантелей Прокофьевич: раздался в ширину, чуть ссутулился, но все же выглядел стариком складным. Был сух в кости, хром (в молодости на императорском смотру на скачках сломал левую ногу), носил в левом ухе серебряную полумесяцем серьгу, до старости не слиняли на нем вороной масти борода и волосы, в гневе доходил до беспамятства и, как видно, этим раньше времени состарил свою когда-то красивую, а теперь сплошь опутанную паутиной морщин, дородную жену.
Старший, уже женатый сын его Петро напоминал мать: небольшой, курносый, в буйной повители пшеничного цвета волос, кареглазый; а младший, Григорий, в отца попер: на полголовы выше Петра, хоть на шесть лет моложе, такой же, как у бати, вислый коршунячий нос, в чуть косых прорезях подсиненные миндалины горячих глаз, острые плиты скул обтянуты коричневой румянеющей кожей. Так же сутулился Григорий, как и отец, даже в улыбке было у обоих общее, звероватое.
Дуняшка — отцова слабость — длиннорукий, большеглазый подросток, да Петрова жена Дарья с малым дитём — вот и вся мелеховская семья.
II (III)
Григорий пришел с игрищ после первых кочетов. Из сенцев пахнуло на него запахом перекисших хмелин и пряной сухменью богородицыной травки.
На цыпочках прошел в горницу, разделся, бережно повесил праздничные, с лампасами, шаровары, перекрестился, лег. На полу — перерезанная крестом оконного переплета золотая дрема лунного света. В углу под расшитыми полотенцами тусклый глянец серебрёных икон, над кроватью на подвеске тягучий гуд потревоженных мух.
Задремал было, но в кухне заплакал братнин ребенок.
Немазаной арбой заскрипела люлька. Дарья сонным голосом бормотнула:
— Цыц, ты, поганое дите! Ни сну тебе, ни покою. — Запела тихонько:
— Кол[я]да-дуда*,
Иде ж ты была?
— Коней стерегла.
— Чего выстерегла?
— Коня с седлом,
С золотым махром…
Григорий, засыпая под мерный баюкающий скрип, вспомнил: «А ить завтра Петру в лагеря выходить. Останется Дашка с дитем… Косить, должно, без него будем».
Зарылся головой в горячую подушку, в уши назойливо сочится:
— А иде ж твой конь?
— За воротами стоит.
— А иде ж ворота?
— Вода унесла.
Встряхнуло Григория заливистое конское ржанье. По голосу угадал Петрова строевого коня.
Обессилевшими со сна пальцами долго застегивал рубаху, опять почти уснул под текучую зыбь песни:
— А иде ж гуси?
— В камыш ушли.
— А иде ж камыш?
— Девки выжали.
— А иде ж девки?
— Девки замуж ушли.
— А иде ж казаки?
— На войну пошли…
Разбитый сном, добрался Григорий до конюшни, вывел коня на проулок. Щекотнула лицо налетевшая паутина, и неожиданно пропал сон.
По Дону наискось — волнистый, никем не езженный лунный шлях. Над Доном — туман, а вверху звездное просо. Конь позади сторожко переставляет ноги. К воде спуск дурной. На той стороне утиный кряк, возле берега в тине взвернул и бухнул по воде омахом охотящийся на мелочь сом.
Григорий долго стоял у воды. Прелью сырой и пресной дышал берег. С конских губ ронялась дробная капель. На сердце у Григория сладостная пустота. Хорошо и бездумно. Возвращаясь, глянул на восход, там уже рассосалась синяя полутьма.
Возле конюшни столкнулся с матерью.
— Это ты, Гришка?
— А то кто ж.
— Коня поил?
— Поил, — нехотя отвечает Григорий.
Откинувшись назад, несет мать в завеске на затоп кизеки, шаркает старчески-дряблыми босыми ногами.
— Сходил бы Астаховых побудил. Степан с нашим Петром собирался ехать.
Прохлада вкладывает в Григория тугую дрожащую пружину. Тело в колючих мурашках. Через три порожка взбегает к Астаховым на гулкое крыльцо. Дверь не заперта. В кухне на разостланной полсти спит Степан, подмышкой у него голова жены.
В поредевшей темноте Григорий видит взбитую выше колен Аксиньину рубаху, березово-белые, бесстыдно раскинутые ноги. Он секунду смотрит, чувствуя, как сохнет во рту и в чугунном звоне пухнет голова.
Воровато повел глазами. Зачужавшим голосом хрипло:
— Эй, кто тут есть? Вставайте!
Аксинья всхлипнула со сна.
— Ой, кто такое? Ктой-то? — Суетливо зашарила, забилась в ногах голая ее рука, натягивая рубаху. Осталось на подушке пятнышко уроненной во сне слюны; крепок заревой бабий сон.
— Это я. Мать послала побудить вас…
— Мы зара̀з… Тут у нас не влезешь… От блох на полу спим. Степан, вставай, слышишь?
По голосу Григорий догадывается, что ей неловко, и спешит уйти.
* * *
Из хутора в майские лагеря уходило человек тридцать казаков. Место сбора — плац. Часам к семи к плацу потянулись повозки с брезентовыми будками, пешие и конные казаки в майских парусиновых рубахах, в снаряжении.
Петро на крыльце наспех сшивал треснувший чумбур. Пантелей Прокофьевич похаживал возле Петрова коня, — подсыпая в корыто овес, изредка покрикивал:
— Дуняшка, сухари зашила? А сало пересыпала солью?
Вся в румяном цвету, Дуняшка ласточкой чертила баз от стряпки к куреню, на окрики отца, смеясь, отмахивалась:
— Вы, батя, свое дело управляйте, а я братушке так уложу, что до Черкасского не ворохнется.
— Не поел? — осведомлялся Петро, слюнявя дратву и кивая на коня.
— Жует, — степенно отвечал отец, шершавой ладонью проверяя потники. Малое дело — крошка или былка прилипнет к потнику, а за один переход в кровь потрет спину коню.
— Доисть Гнедой — попоите его, батя.
— Гришка к Дону сводит. Эй, Григорий, веди коня!
Высокий поджарый донец с белой на лбу вызвездью пошел играючись. Григорий вывел его за калитку, — чуть тронув левой рукой холку, вскочил на него и с места — машистой рысью. У спуска хотел придержать, но конь сбился с ноги, зачастил, пошел под гору намётом. Откинувшись назад, почти лежа на спине коня, Григорий увидел спускавшуюся под гору женщину с ведрами. Свернул со стежки и, обгоняя взбаламученную пыль, врезался в воду.
С горы, покачиваясь, сходила Аксинья, еще издали голосисто крикнула:
— Чертяка бешеный! Чудок конем не стоптал! Вот погоди, я скажу отцу, как ты ездишь.
— Но-но, соседка, не ругайся. Проводишь мужа в лагеря, может и я в хозяйстве сгожусь.
— Как-то н[а] черт[а] нужен ты мне!**
— Зачнется покос — ишо попросишь, — смеялся Григорий.
Аксинья с подмостей ловко зачерпнула на коромысле ведро воды и, зажимая промеж колен надутую ветром юбку, глянула на Григория.
— Что ж, Степан твой собрался? — спросил Григорий.
— А тебе чего?
— Какая ты… Спросить, что ль, нельзя?
— Собрался. Ну?
— Остаешься, стал-быть, жалмеркой?
— Стал-быть, так.
Конь оторвал от воды губы, со скрипом пожевал стекавшую воду и, глядя на ту сторону Дона, ударил по воде передней ногой. Аксинья зачерпнула другое ведро; перекинув через плечо коромысло, легкой раскачкой пошла на гору. Григорий тронул коня следом. Ветер трепал на Аксинье юбку, перебирал на смуглой шее мелкие пушистые завитки. На тяжелом узле волос пламенела расшитая цветным шелком шлычка, розовая рубаха, заправленная в юбку, не морщинясь, охватывала крутую спину и налитые плечи. Поднимаясь в гору, Аксинья клонилась вперед, ясно вылегала под рубахой продольная ложбинка на спине. Григорий видел бурые круги слинявшей подмышками от пота рубахи, провожал глазами каждое движение. Ему хотелось снова заговорить с ней.
— Небось, будешь скучать по мужу? А?
Аксинья на ходу повернула голову, улыбнулась.
— А то как же. Ты вот женись, — переводя дух, она говорила прерывисто, — женись, а посля узнаешь, скучают ай нет по дружечке.
Толкнув коня, ровняясь с ней, Григорий заглянул ей в глаза.
— А ить иные бабы ажник рады, как мужей проводют. Наша Дарья без Петра толстеть зачинает.
Аксинья, двигая ноздрями, резко дышала; поправляя волосы, сказала:
— Муж — он не уж, а тянет кровя. Тебя-то скоро обженим?
— Не знаю, как батя. Должно, посля службы.
— Молодой ишо, не женись.
— А что?
— Сухота одна. — Она глянула исподлобья; не разжимая губ, скупо улыбнулась. И тут в первый раз заметил Григорий, что губы у нее бесстыдно-жадные, пухловатые.
Он, разбирая гриву на прядки, сказал:
— Охоты нету жениться. Какая-нибудь и так полюбит.
— Ай приметил?
— Чего мне примечать… Ты вот проводишь Степана…
— Ты со мной не заигрывай!
— Ушибешь?
— Степану скажу словцо…
— Я твоего Степана…
— Гляди, храбрый, слеза капнет.
— Не пужай, Аксинья!
— Я не пужаю. Твое дело с девками. Пущай утирки тебе вышивают, а на меня не заглядывайся.
— Нарошно буду глядеть.
— Ну, и гляди.
Аксинья примиряюще улыбнулась и сошла со стежки, норовя обойти коня. Григорий повернул его боком, загородил дорогу.
— Пусти, Гришка!
— Не пущу.
— Не дури, мне надо мужа сбирать.
Григорий, улыбаясь, горячил коня: тот, переступая, теснил Аксинью к яру.
— Пусти, дьявол, вон люди! Увидют, что́ подумают?
Она метнула по сторонам испуганным взглядом и прошла, хмурясь и не оглядываясь.
На крыльце Петро прощался с родными. Григорий заседлал коня. Придерживая шашку, Петро торопливо сбежал по порожкам, взял из рук Григория поводья.
Конь, чуя дорогу, беспокойно переступал, пенил, гоняя во рту, мундштук. Поймав ногой стремя, держась за луку, Петро говорил отцу:
— Лысых работой не нури, батя! Заосеняет — продадим. Григорию ить коня справлять. А степную траву, гляди, не продавай: в лугу ноне, сам знаешь, какие сена́ будут.
— Ну, с богом. Час добрый, — проговорил старик, крестясь.
Петро привычным движением вскинул в седло свое сбитое тело, поправил позади складки рубахи, стянутые пояском. Конь пошел к воротам. На солнце тускло блеснула головка шашки, подрагивавшая в такт шагам.
Дарья с ребенком на руках пошла следом. Мать, вытирая рукавом глаза и углом завески покрасневший нос, стояла посреди база.
— Братушка, пирожки! Пирожки забыл!.. Пирожки с картошкой!..
Дуняшка козой скакнула к воротам.
— Чего орешь, дура! — досадливо крикнул на нее Григорий.
— Остались пирожки-и! — прислонясь к калитке, стонала Дуняшка, и на измазанные горячие щеки, а со щек на будничную кофтенку — слезы.
Дарья из-под ладони следила за белой, занавешенной пылью рубахой мужа. Пантелей Прокофьевич, качая подгнивший столб у ворот, глянул на Григория.
— Ворота возьмись поправь да стояно́к на углу врой. — Подумав, добавил, как новость сообщил: — Уехал Петро.
Через плетень Григорий видел, как собирался Степан. Принаряженная в зеленую шерстяную юбку Аксинья подвела ему коня. Степан, улыбаясь, что-то говорил ей. Он не спеша, по-хозяйски, поцеловал жену и долго не снимал руки с ее плеча. Сожженная загаром и работой рука угольно чернела на белой Аксиньиной кофточке. Степан стоял к Григорию спиной; через плетень было видно его тугую, красиво подбритую шею, широкие, немного вислые плечи и — когда наклонялся к жене — закрученный кончик русого уса.
Аксинья чему-то смеялась и отрицательно качала головой. Рослый вороной конь качнулся, подняв на стремени седока. Степан выехал из ворот торопким шагом, сидел в седле, как врытый, а Аксинья шла рядом, держась за стремя, и снизу вверх, любовно и жадно, по-собачьи заглядывала ему в глаза.
Так миновали они соседний курень и скрылись за поворотом.
Григорий провожал их долгим неморгающим взглядом.
————————————
* Исследователь «Тихого Дона» Алексей Неклюдов заметил, что и во всех рукописных вариантах, и в изданиях Шолохова, не «Коляда-дуда» или «Колёда-дуда» (устойчивое выражение, встречается в южнорусских колядках), а бессмысленное «Колода-дуда». Цитируемая в этом месте ТД песня хорошо известна фольклористам. Ср., например: «– Колёда-дуда, / Где ж ты была? / – Коней стерегла. / – Чего выстерегла? / – Коня в седле, / В золотой узде…» (с. Перлевка Семилукского р-на Воронежской области). ТД в шолоховской его версии полон подобными «колодами» См. по ссылкам в конце данного текста. (Прим. А. Ч.)
**В шолоховском издании, как и в его «рукописях» (с. 15; 13; 14), нечто неудобоваримое: «– Как-то ни черт, нужен ты мне!» (ТД: 1, III, 26). Правка по идиоме, варианты которой неоднократно встречаются в прозе Ф. Д. Крюкова: «– А мнe што?! На кой черт мне девки?… » («Гулебщики»); «Да на черта оно мне, это казачество?» («На Тихом Дону»); «– Ну, вот… На кой она черт?» («Отец Нелид»); «На кой черт они?» («Зыбь»); «Ну, он меня с касции – долой: на черта ты, говорит, мне нужна, коль так хозяйствовать умеешь!» («Душа одна»); «На черта нам они?» («Станичники»); «На какого черта вам нужны были эти проводы, напутствия?» («Шквал»); «Слепой кишки чтобы совсем не было – на кой она черт?» («Ратник»). «Ни черт» – испорченное «на черта» (конечное «а» было принято переписчиком за «ъ»). (Прим. А. Ч.)
III (V)
До хутора Сетракова — места лагерного сбора — шестьдесят верст*. Петро Мелехов и Астахов Степан ехали на одной бричке. С ними еще трое казаков-хуторян: Федот Бодовсков — молодой калмыковатый и рябой казак, второочередник лейб-гвардии Атаманского полка Хрисанф Токин, по прозвищу Христоня, и батареец Томилин Иван, направлявшийся в Персиановку. В бричку после первой же кормежки запрягли двухвершкового Христониного коня и Степанового вороного. Остальные три лошади, оседланные, шли позади. Правил здоровенный и дурковатый, как большинство атаманцев, Христоня. Колесом согнув спину, сидел он впереди, заслонял в будку свет, пугал лошадей гулким октавистым басом. В бричке, обтянутой новеньким брезентом, лежали, покуривая, Петро Мелехов, Степан и батареец Томилин. Федот Бодовсков шел позади; видно, не в тягость было ему втыкать в пыльную дорогу кривые свои калмыцкие ноги.
Христонина бричка шла головной. За ней тянулись еще семь или восемь запряжек с привязанными оседланными и неоседланными лошадьми.
Вихрились над дорогой хохот, крики, тягучие песни, конское порсканье, перезвяк порожних стремян.
У Петра в головах сухарный мешок. Лежит Петро и крутит желтый длиннющий ус.
— Степан!
— А?
— …на! Давай служивскую заиграем?
— Жарко дюже. Ссохлось все.
— Кабаков нету на ближних хуторах, не жди!
— Ну, заводи. Да ты ить не мастак. Эх, Гришка ваш дишканит! Потянет, чисто нитка серебряная, не голос. Мы с ним на игрищах драли.
Степан откидывает голову, — прокашлявшись, заводит низким звучным голосом:
Эх ты, зоренька-зарница,
Рано на небо взошла…
Томилин по-бабьи прикладывает к щеке ладонь, подхватывает тонким, стенящим подголоском. Улыбаясь, заправив в рот усину, смотрит Петро, как у грудастого батарейца синеют от усилия узелки жил на висках.
Молодая, вот она, бабенка
Поздно по воду пошла…
Степан лежит к Христоне головой, поворачивается, опираясь на руку; тугая красивая шея розовеет.
— Христоня, подмоги!
А мальчишка, он догадался,
Стал коня свово седлать…
Степан переводит на Петра улыбающийся взгляд выпученных глаз, и Петро, вытянув изо рта усину, присоединяет голос.
Христоня, разинув непомерную залохматевшую щетиной пасть, ревет, сотрясая брезентовую крышу будки:
Оседлал коня гнедого —
Стал бабенку догонять…
Христоня кладет на ребро аршинную босую ступню, ожидает, пока Степан начнет вновь. Тот, закрыв глаза, — потное лицо в тени, — ласково ведет песню, то снижая голос до шепота, то вскидывая до металлического звона:
Ты позволь, позволь, бабенка,
Коня в речке напоить…
И снова колокольно-набатным гудом давит Христоня голоса. Вливаются в песню голоса и с соседних бричек. Поцокивают колеса на железных ходах, чихают от пыли кони, тягучая и сильная, полой водой, течет над дорогой песня. От высыхающей степной музги, из горелой коричневой куги взлетывает белокрылый чибис. Он с криком летит в лощину; поворачивая голову, смотрит изумрудным глазком на цепь повозок, обтянутых белым, на лошадей, кудрявящих смачную пыль копытами, на шагающих по обочине дороги людей в белых, просмоленных пылью рубахах. Чибис падает в лощине, черной грудью ударяет в подсыхающую, примятую зверем траву — и не видит, что творится на дороге. А по дороге так же громыхают брички, так же нехотя переступают запотевшие под седлами кони; лишь казаки в серых рубахах быстро перебегают от своих бричек к передней, грудятся вокруг нее, стонут в хохоте.
Степан во весь рост стоит на бричке, одной рукой держится за брезентовый верх будки, другой коротко взмахивает; сыплет мельчайшей, подмывающей скороговоркой:
Не садися возле меня,
Не садися возле меня,
Люди скажут — любишь меня,
Любишь меня,
Ходишь ко мне,
Любишь меня,
Ходишь ко мне,
А я роду не простого…
Десятки грубых голосов хватают на лету, ухают, стелют на придорожную пыль:
А я роду не простого,
Не простого —
Воровского,
Воровского —
Не простого,
Люблю сына князевского…
Федот Бодовсков свищет; приседая, рвутся из постромок кони; Петро, высовываясь из будки, смеется и машет фуражкой; Степан, сверкая ослепительной усмешкой, озорно поводит плечами; а по дороге бугром движется пыль; Христоня, в распоясанной длиннющей рубахе, патлатый, мокрый от пота, ходит вприсядку, кружится маховым колесом, хмурясь и стоная, делает казачка, и на сером шелковье пыли остаются чудовищные разлапистые следы босых его ног.
————————
* Ныне хутор Сетраки Чертковского района Ростовской области в 60 верстах от Вешенской и в 120 хутора Хованского (прим. А. Ч.)
IV (VI)
Возле лобастого, с желтой песчаной лысиной кургана остановились ночевать.
С запада шла туча. С черного ее крыла сочился дождь. Поили коней в пруду. Над плотиной горбатились под ветром унылые вербы. В воде, покрытой застойной зеленью и чешуей убогих волн, отражаясь, коверкалась молния. Ветер скупо кропил дождевыми каплями, будто милостыню сыпал на черные ладони земли.
Стреноженных лошадей пустили на попас, назначив в караул трех человек. Остальные разводили огни, вешали котлы на дышла бричек.
Христоня кашеварил. Помешивая ложкой в котле, рассказывал сидевшим вокруг казакам:
— …Курган, стал-быть, высокий, навроде этого. Я и говорю покойничку-бате: «А что, атаман1 не забастует нас за то, что без всякого, стал-быть, дозволенья зачнем курган потрошить?»
— Об чем он тут брешет? — спросил вернувшийся от лошадей Степан.
— Рассказываю, как мы с покойничком-батей, царство небесное старику, клад искали.
— Где же вы его искали?
— Это, браток, аж за Фетисовой балкой. Да ты знаешь — Меркулов курган…
— Ну-ну… — Степан присел на корточки, положил на ладонь уголек. Плямкая губами, долго прикуривал, катал его по ладони.
— Ну, вот. Стал-быть, батя говорит: «Давай, Христан, раскопаем Меркулов курган». От деда слыхал он, что в нем зарытый клад. А клад, стал-быть, не кажному в руки дается. Батя сулил богу: отдашь, мол, клад — церкву прекрасную выстрою. Вот мы порешили и поехали туда. Земля станишная — сумнение от атамана могло только быть. Приезжаем к ночи. Дождались, покель смеркнется, кобылу, стал-быть, стреножили, а сами с лопатами залезли на макушку. Зачали бузовать прямо с темечка. Вырыли яму аршина в два, земля — чисто каменная, захрясла от давности. Взмок я. Батя всё молитвы шепчет, а у меня, братцы, верите, до того в животе бурчит… В летнюю пору, стал-быть, харч вам звестный: кислое молоко да квас… Перехватит поперек живот, смерть в глазах — и всё! Батя-покойничек, царство ему небесное, и говорит: «Фу, — говорит, — Христан, и поганец ты! Я молитву прочитываю, а ты не могешь пищу сдерживать, дыхнуть, стал-быть, нечем. Иди, — говорит, — слазь с кургана, а то я тебе голову лопатой срублю. Через тебя, поганца, клад могет в землю уйтить». Я лег под курганом и страдаю животом, взяло на колотье, а батя-покойничек — здоровый был чертяка! — копает один. И дорылся он до каменной плиты. Кличет меня. Я, стал-быть, подовздел ломом, поднял эту плиту… Верите, братцы, ночь месячная была, а под плитой так и блестит…
— Ну, и брешешь ты, Христоня! — не вытерпел Петро, улыбаясь и дергая ус.
— Чего «брешешь»? Пошел ты к тетери-ятери! — Христоня поддернул широченные шаровары и оглядел слушателей. — Нет, стал-быть, не брешу! Истинный бог — правда!
— К берегу-то прибивайся!
— Так, братцы, и блестит. Я — глядь, а это, стал-быть, сожгённый уголь. Там его было мер сорок. Батя и говорит: «Лезь, Христан, выгребай его». Полез. Кидал, кидал этую страмоту, до самого света хватило. Утром, стал-быть, глядь, а он — вот он.
— Кто? — поинтересовался лежавший на попоне Томилин.
— Да атаман, кто же. Едет в пролетке: «Кто дозволил, такие-сякие?» Молчим. Он нас, стал-быть, сгреб — и в станицу. Позапрошлый год в Каменскую на суд вызывали, а батя догадался — успел помереть. Отписали бумагой, что в живых его нету.
Христоня снял котел с дымившейся кашей, пошел к повозке за ложками.
— Что ж отец-то? Сулил церкву построить, да так и не построил? — спросил Степан, дождавшись, пока Христоня вернулся с ложками.
— Дурак ты, Степа, что ж он за уголья, стал-быть, строил ба?
— Раз сулил — значится, должен.
— Всчет угольев не было никакого уговору, а клад…
От хохота дрогнул огонь. Христоня поднял от котла простоватую голову и, не разобрав, в чем дело, покрыл голоса остальных густым гоготом.
V (IV)
К вечеру собралась гроза. Над хутором стала бурая туча. Дон, взлохмаченный ветром, кидал на берега гребнистые частые волны. За левадами палила небо сухая молния, давил землю редкими раскатами гром. Под тучей, раскрылатившись, колесил коршун, его с криком преследовали вороны. Туча, дыша холодком, шла вдоль по Дону, с запада. За займищем грозно чернело небо, степь выжидающе молчала. В хуторе хлопали закрываемые ставни, от вечерни, крестясь, спешили старухи, на плацу колыхался серый столбище пыли, и отягощенную вешней жарою землю уже засевали первые зерна дождя.
Дуняшка, болтая косичками, прожгла по базу, захлопнула дверцу курятника и стала посреди база, раздувая ноздри, как лошадь перед препятствием. На улице взбрыкивали ребятишки. Соседский восьмилеток Мишка вертелся, приседая на одной ноге, — на голове у него, закрывая ему глаза, кружился непомерно просторный отцовский картуз, — и пронзительно верещал:
Дождюк, дождюк припусти.
Мы поедем во кусты,
Богу молиться,
Христу поклониться.
Дуняшка завистливо глядела на босые, густо усыпанные цыпками Мишкины ноги, ожесточенно топтавшие землю. Ей тоже хотелось приплясывать под дождем и мочить голову, чтоб волос рос густой и курчавый; хотелось вот так же, как Мишкиному товарищу, укрепиться на придорожной пыли вверх ногами, с риском свалиться в колючки, — но в окно глядела мать, сердито шлепая губами. Вздохнув, Дуняшка побежала в курень. Дождь спустился ядреный и частый. Над самой крышей лопнул гром, осколки покатились за Дон.
В сенях отец и потный Гришка тянули из боковушки скатанный бредень.
— Ниток суровых и иглу-цыганку, шибко! — крикнул Дуняшке Григорий.
В кухне зажгли огонь. Зашивать бредень села Дарья. Старуха, укачивая дитя, бурчала:
— Ты, старый, сроду на выдумки. Спать ложились бы, гас все дорожает, а ты жгешь. Какая теперича ловля? Куда вас чума понесет? Ишо перетопнете, там ить на базу страсть господня. Ишь, ишь, как полыхает! Господи Иисусе Христе, царица небес…
В кухне на секунду стало ослепительно сине и тихо: слышно было, как ставни царапал дождь, — следом ахнул гром. Дуняшка пискнула и ничком ткнулась в бредень. Дарья мелкими крестиками обмахивала окна и двери.
Старуха страшными глазами глядела на ластившуюся у ног ее кошку.
— Дунька! Го-о-ни ты ее, прок… царица небесная, прости меня, грешницу. Дунька, кошку выкинь на баз. Брысь ты, нечистая сила! Чтоб ты…
Григорий, уронив комол бредня, трясся в беззвучном хохоте.
— Ну, чего вы вскагакались? Цыцьте! — прикрикнул Пантелей Прокофьевич. — Бабы, живо зашивайте! Надысь ишо говорил: оглядите бредень.
— И какая теперя рыба, — заикнулась было старуха.
— Не разумеешь, — молчи! Самое стерлядей на косе возьмем. Рыба к берегу зараз идет, боится бурю. Вода, небось, уж мутная пошла. Ну-ка, выбеги, Дуняшка, послухай — играет ерик?
Дуняшка нехотя, бочком, подвинулась к дверям.
— Кто ж бродить пойдет? Дарье нельзя, могет груди застудить, — не унималась старуха.
— Мы с Гришкой, а с другим бреднем — Аксинью покличем, кого-нибудь ишо из баб.
Запыхавшись, вбежала Дуняша. На ресницах, подрагивая, висели дождевые капельки. Пахнуло от нее отсыревшим черноземом.
— Ерик гудет, ажник страшно!
— Пойдешь с нами бродить?
— А ишо кто пойдет?
— Баб покличем.
— Пойду!
— Ну, накинь зипун и скачи к Аксинье. Ежели пойдет, пущай покличет Малашку Фролову!
— Энта не замерзнет, — улыбнулся Григорий, — на ней жиру, как на добром борове.
— Ты бы сенца сухого взял, Гришунька, — советовала мать, — под сердце подложишь, а то нутрё застудишь.
— Григорий, мотай за сеном. Старуха верное слово сказала.
Вскоре привела Дуняшка баб. Аксинья, в рваной подпоясанной веревкой кофтенке и в синей исподней юбке, выглядела меньше ростом, худее. Она, пересмеиваясь с Дарьей, сняла с головы платок, потуже закрутила в узел волосы и, покрываясь, откинув голову, холодно оглядела Григория. Толстая Малашка подвязывала у порога чулки, хрипела простуженно:
— Мешки взяли? Истинный бог, мы ноне шатанем рыбы.
Вышли на баз. На размякшую землю густо лил дождь, пенил лужи, потоками сползал к Дону.
Григорий шел впереди. Подмывало его беспричинное веселье.
— Гляди, батя, тут канава.
— Эка темень-то!
— Держись, Аксюша, при мне, вместе будем в тюрьме, — хрипло хохочет Малашка.
— Гляди, Григорий, никак Майданниковых пристань?
— Она и есть.
— Отсель… зачинать… — осиливая хлобыстающий ветер, кричит Пантелей Прокофьевич.
— Не слышно, дяденька! — хрипит Малашка.
— Заброди, с богом… Я от глуби. От глуби, говорю… Малашка, дьявол глухой, куда тянешь? Я пойду от глуби!.. Григорий, Гришка! Аксинья пущай от берега!
У Дона стонущий рев. Ветер на клочья рвет косое полотнище дождя.
Ощупывая ногами дно, Григорий по пояс окунулся в воду. Липкий холод дополз до груди, обручем стянул сердце. В лицо, в накрепко зажмуренные глаза, словно кнутом, стегает волна. Бредень надувается шаром, тянет вглубь. Обутые в шерстяные чулки ноги Григория скользят по песчаному дну. Комол рвется из рук… Глубже, глубже. Уступ. Срываются ноги. Течение порывисто несет к середине, всасывает. Григорий правой рукой с силой гребет к берегу. Черная колышущаяся глубина пугает его, как никогда. Нога радостно наступает на зыбкое дно. В колено стукается какая-то рыба.
— Обходи глубе! — откуда-то из вязкой черни голос отца.
Бредень, накренившись, опять ползет в глубину, опять течение рвет из-под ног землю, и Григорий, задирая голову, плывет, отплевывается.
— Аксинья, жива?
— Жива покуда.
— Никак, перестает дождик?
— Маленький перестает, зараз большой тронется.
— Ты потихоньку. Отец услышит — ругаться будет.
— Испужался отца, тоже…
С минуту тянут молча. Вода, как липкое тесто, вяжет каждое движение.
— Гриша, у берега, кубыть, карша. Надоть обвесть.
Страшный толчок далеко отшвыривает Григория. Грохочущий всплеск, будто с яра рухнула в воду глыбища породы.
— А-а-а-а! — где-то у берега визжит Аксинья.
Перепуганный Григорий, вынырнув, плывет на крик.
— Аксинья!
Ветер и текучий шум воды.
— Аксинья! — холодея от страха, кричит Григорий.
— Э-гей!!. Гри-го-ри-ий! — издалека приглушенный отцов голос.
Григорий кидает взмахи. Что-то вязкое под ногами, схватил рукой: бредень.
— Гриша, где ты?.. — плачущий Аксиньин голос.
— Чего ж не откликалась-то?.. — сердито орет Григорий, на четвереньках выбираясь на берег.
Присев на корточки, дрожа, разбирают спутанный комом бредень. Из прорехи разорванной тучи вылупливается месяц. За займищем сдержанно поговаривает гром. Лоснится земля невпитанной влагой. Небо, выстиранное дождем, строго и ясно.
Распутывая бредень, Григорий всматривается в Аксинью. Лицо ее мелово-бледно, но красные, чуть вывернутые губы уже смеются.
— Как оно меня шибанет на берег, — переводя дух, рассказывает она, — от ума отошла. Спужалась до смерти! Я думала — ты утоп.
Руки их сталкиваются. Аксинья пробует просунуть свою руку в рукав его рубахи.
— Как у тебя тепло-то в рукаве, — жалобно говорит она, — а я замерзла. Колики по телу пошли.
— Вот он, проклятущий сомяга, где саданул!
Григорий раздвигает на середине бредня дыру аршина полтора в поперечнике.
От косы кто-то бежит. Григорий угадывает Дуняшку. Еще издали кричит ей:
— Нитки у тебя?
— Туточка.
Дуняшка, запыхавшись, подбегает.
— Вы чего ж тут сидите? Батянька прислал, чтоб скорей шли к косе. Мы там мешок стерлядей наловили! — В голосе Дуняшки нескрываемое торжество.
Аксинья, ляская зубами, зашивает дыру в бредне. Рысью, чтобы согреться, бегут на косу.
Пантелей Прокофьевич крутит цыгарку рубчатыми от воды и пухлыми, как у утопленника, пальцами; приплясывая, хвалится:
— Раз забрели — восемь штук, а другой раз… — он делает передышку, закуривает и молча показывает ногой на мешок.
Аксинья с любопытством заглядывает. В мешке скрежещущий треск: трется живучая стерлядь.
— А вы чего ж отбились?
— Сом бредень просадил.
— Зашили?
— Кое-как, ячейки посцепили…
— Ну, дойдем до колена и — домой. Забредай, Гришка, чего ж взноровился?
Григорий переступает одеревеневшими ногами. Аксинья дрожит так, что дрожь ее ощущает Григорий через бредень.
— Не трясись!
— И рада б, да духу не переведу.
— Давай вот что… Давай вылазить, будь она проклята, рыба эта!
Крупный сазан бьет через бредень. Учащая шаг, Григорий загибает бредень, тянет комол, Аксинья, согнувшись, выбегает на берег. По песку шуршит схлынувшая назад вода, трепещет рыба.
— Через займище пойдем?
— Лесом ближе. Эй, вы, там, скоро?
— Идите, догоним. Бредень вот пополоскаем.
Аксинья, морщась, выжала юбку, подхватила на плечи мешок с уловом, почти рысью пошла по косе. Григорий нес бредень. Прошли саженей сто, Аксинья заохала:
— Моченьки моей нету! Ноги с пару зашлись.
— Вот прошлогодняя копна, может погреешься?
— И то. Покуда до дому дотянешь — помереть можно.
Григорий свернул набок шапку копны, вырыл яму. Слежалое сено ударило горячим запахом прели.
— Лезь в середку. Тут — как на печке.
Аксинья, кинув мешок, по шею зарылась в сено.
— То-то благодать!
Подрагивая от холода, Григорий прилег рядом. От мокрых Аксиньиных волос тек нежный волнующий запах. Она лежала, запрокинув голову, мерно дыша полуоткрытым ртом.
— Волосы у тебя дурнопьяном пахнут. Знаешь, этаким цветком белым… — шепнул, наклонясь, Григорий.
Она промолчала. Туманен и далек был взгляд ее, устремленный на ущерб колёсистого месяца.
Григорий, выпростав из кармана руку, внезапно притянул ее голову к себе. Она резко рванулась, привстала.
— Пусти!
— Помалкивай.
— Пусти, а то зашумлю!*
— Погоди, Аксинья…
— Дядя Пантелей!..
— Ай заблудилась? — совсем близко, из зарослей боярышника, отозвался Пантелей Прокофьевич.
Григорий, сомкнув зубы, прыгнул с копны.
— Ты чего шумишь? Ай заблудилась? — подходя, переспросил старик.
Аксинья стояла возле копны, поправляя сбитый на затылок платок, над нею дымился пар.
— Заблудиться-то нет, а вот было-к замерзнула.
— Тю, баба, а вот, гля, копна. Посогрейся.
Аксинья улыбнулась, нагнувшись за мешком.
——————————————————————————-
*Параллель, замеченная М.Т. Мезенцевым: в раннем очерке Ф. Д. Крюкова «На Тихом Дону» (Русское Богатство, 1898, № 10. С. 133.) казак пристает к соседке, а та отбивается: «– Пусти… Пусти, тебе говорят, а то зашумлю...»
VI (VII)
Аксинью выдали за Степана семнадцати лет. Взяли ее с хутора Дубровки, с той стороны Дона, с песков.
За год до выдачи осенью пахала она в степи, верст за восемь от хутора. Ночью отец ее, пятидесятилетний старик, связал ей треногой руки и изнасиловал.
— Убью, ежели пикнешь слово, а будешь помалкивать — справлю плюшевую кофту и гетры с калошами. Так и помни: убью, ежели что… — пообещал он ей.
Ночью, в одной изорванной исподнице, прибежала Аксинья в хутор. Валяясь в ногах у матери, давясь рыданиями, рассказывала… Мать и старший брат, атаманец, только что вернувшийся со службы, запрягли в бричку лошадей, посадили с собой Аксинью и поехали туда, к отцу. За восемь верст брат чуть не запалил лошадей. Отца нашли возле стана. Пьяный, спал он на разостланном зипуне, около валялась порожняя бутылка из-под водки. На глазах у Аксиньи брат отцепил от брички барок, ногами поднял спящего отца, что-то коротко спросил у него и ударил окованным барком старика в переносицу. Вдвоем с матерью били его часа полтора. Всегда смирная, престарелая мать исступленно дергала на обеспамятевшем муже волосы, брат старался ногами. Аксинья лежала под бричкой, укутав голову, молча тряслась… Перед светом привезли старика домой. Он жалобно мычал, шарил по горнице глазами, отыскивая спрятавшуюся Аксинью. Из оторванного уха его катилась на подушку кровь и белесь. Ввечеру он помер. Людям сказали, что пьяный упал с арбы и убился.
А через год приехали на нарядной бричке сваты за Аксинью. Высокий, крутошеий и статный Степан невесте понравился, на осенний мясоед назначили свадьбу. Подошел такой предзимний, с морозцем и веселым ледозвоном день, окрутили молодых; с той поры и водворилась Аксинья в астаховском доме молодой хозяйкой. Свекровь, высокая, согнутая какой-то жестокой бабьей болезнью старуха, на другой же день после гульбы рано разбудила Аксинью, привела ее на кухню и, бесцельно переставляя рогачи, сказала:
— Вот что, милая моя сношенька, взяли мы тебя не кохаться да не вылеживаться. Иди-ка передои коров, а посля становись к печке стряпать. Я — старая, немощь одолевает, а хозяйство ты к рукам бери, за тобой оно ляжет.
В этот же день в амбаре Степан обдуманно и страшно избил молодую жену. Бил в живот, в груди, в спину; бил с таким расчетом, чтобы не видно было людям. С той поры стал он прихватывать на стороне, путался с гулящими жалмерками, уходил чуть не каждую ночь, замкнув Аксинью в амбаре или горенке.
Года полтора не прощал ей обиду: пока не родился ребенок. После этого притих, но на ласку был скуп и по-прежнему редко ночевал дома.
Большое многоскотинное хозяйство затянуло Аксинью работой. Степан работал с ленцой: начесав чуб, уходил к товарищам покурить, перекинуться в картишки, побрехать о хуторских новостях, а скотину убирать приходилось Аксинье, ворочать хозяйством — ей. Свекровь была плохая помощница. Посуетившись, падала на кровать и, вытянув в нитку блеклую желтень губ, глядя в потолок звереющими от боли глазами, стонала, сжималась в комок. В такие минуты на лице ее, испятнанном черными уродливо крупными родинками, выступал обильный пот, в глазах накапливались и часто, одна за другой, стекали слезы. Аксинья, бросив работу, забивалась где-нибудь в угол и со страхом и жалостью глядела на свекровьино лицо.
Через полтора года старуха умерла. Утром у Аксиньи начались предродовые схватки, а к полудню, за час до появления ребенка, свекровь умерла на ходу, возле дверей старой конюшни. Повитуха, выбежавшая из куреня предупредить пьяного Степана, чтобы не ходил к родильнице, увидела лежащую с поджатыми ногами Аксиньину свекровь.
Аксинья привязалась к мужу после рождения ребенка, но не было у нее к нему чувства, была горькая бабья жалость да привычка. Ребенок умер, не дожив до года. Старая развернулась жизнь. И когда Мелехов Гришка, заигрывая, стал Аксинье поперек пути, с ужасом увидела она, что ее тянет к черному ласковому парню. Он упорно, с бугаиной настойчивостью, ее обхаживал. И это-то упорство и было страшно Аксинье. Она видела, что он не боится Степана, нутром чуяла, что так он от нее не отступится, и, разумом не желая этого, сопротивляясь всеми силами, замечала за собой, что по праздникам и в будни стала тщательней наряжаться, обманывая себя, норовила почаще попадаться ему на глаза. Тепло и приятно ей было, когда черные Гришкины глаза ласкали ее тяжело и исступленно. На заре, просыпаясь доить коров, она улыбалась и, еще не сознавая, отчего, вспоминала: «Нынче что-то есть радостное. Что же? Григорий… Гриша…» Пугало это новое, заполнявшее всю ее чувство, и в мыслях шла ощупью, осторожно, как через Дон по мартовскому ноздреватому льду.
Проводив Степана в лагеря, решила с Гришкой видеться как можно реже. После ловли бреднем решение это укрепилось в ней еще прочнее.
VII (VIII)
За два дня до Троицы хуторские делили луг. На дележ ходил Пантелей Прокофьевич. Пришел оттуда в обед, кряхтя скинул чирики и, смачно почесывая натруженные ходьбой ноги, сказал:
— Досталась нам делянка возле Красного яра. Трава не особо чтоб дюже добрая. Верхний конец до лесу доходит, кой-где — голощечины. Пырейчик проскакивает.
— Когда ж косить? — спросил Григорий.
— С праздников.
— Дарью возьмете, что ль? — нахмурилась старуха.
Пантелей Прокофьевич махнул рукой — отвяжись, мол.
— Понадобится — возьмем. Полудновать-то собирай, чего стоишь, раскрылилась!
Старуха загремела заслонкой, выволокла из печи пригретые щи. За столом Пантелей Прокофьевич долго рассказывал о дележке и жуликоватом атамане, чуть было не обмошенничавшем весь сход.
— Он и энтот год смухлевал, — вступилась Дарья, — отбивали улеши, так он подговаривал все Малашку Фролову конаться.
— Стерва давнишняя, — жевал Пантелей Прокофьевич.
— Батяня, а копнить, гресть кто будет? — робко спросила Дуняшка.
— А ты чего будешь делать?
— Одной, батяня, неуправно.
— Мы Аксютку Астахову покличем. Степан надысь просил скосить ему. Надо уважить.
На другой день утром к мелеховскому базу подъехал верхом на подседланном белоногом жеребце Митька Коршунов. Побрызгивал дождь. Хмарь висела над хутором. Митька, перегнувшись в седле, открыл калитку, въехал на баз. Его с крыльца окликнула старуха.
— Ты, забурунный, чего прибег? — спросила она с видимым неудовольствием. Недолюбливала старая отчаянного и драчливого Митьку.
— И чего тебе, Ильинишна, надоть? — привязывая к перилам жеребца, удивился Митька. — Я к Гришке приехал. Он где?
— Под сараем спит. Тебя, что ж, аль паралик вдарил? Пешки, стал-быть, не могешь ходить?
— Ты, тетенька, кажной дыре гвоздь! — обиделся Митька. Раскачиваясь, помахивая и щелкая нарядной плеткой по голенищам лакированных сапог, пошел он под навес сарая.
Григорий спал в снятой с передка арбе. Митька, жмуря левый глаз, словно целясь, вытянул Григория плетью.
— Вставай, мужик!
«Мужик» у Митьки было слово самое ругательное. Григорий вскинулся пружиной.
— Ты чего?
— Будя зоревать!
— Не дури, Митрий, покеда не осерчал…
— Вставай, дело есть.
— Ну?
Митька присел на грядушку арбы, обивая с сапога плетью присохшее грязцо, сказал:
— Мне, Гришка, обидно…
— Ну?
— Да как же, — Митька длинно ругнулся, — он не он, — сотник1, так и задается.
Всердцах он, не разжимая зубов, быстро кидал слова, дрожал ногами. Григорий привстал.
— Какой сотник?
Хватая его за рукав рубахи, Митька уже тише сказал:
— Зараз седлай коня и побегем в займище. Я ему покажу! Я ему так и сказал: «Давай, ваше благородие, спробуем». — «Веди, грит, всех друзьев-товарищев, я вас всех покрою, затем что мать моей кобылы в Петербурге на офицерских скачках призы сымала». Да, по мне, его кобыла и с матерью — да будь они прокляты! — а я жеребца не дам обскакать!
Григорий наспех оделся. Митька ходил за ним по пятам; заикаясь от злобы, рассказывал:
— Приехал на́ гости к Мохову, купцу, энтот самый сотник. Погоди, чей он прозвищем? Кубыть, Листницкий. Такой из себя тушистый, сурьезный. Очки носит. Ну, да нехай! Даром что в очках, а жеребца не дамся обогнать!
Посмеиваясь, Григорий оседлал старую, оставленную на племя матку и через гуменные ворота — чтоб не видел отец — выехал в степь. Ехали к займищу под горой. Копыта лошадей, чавкая, жевали грязь. В займище возле высохшего тополя их ожидали конные: сотник Листницкий на поджарой красавице-кобылице и человек семь хуторских ребят верхами.
— Откуда скакать? — обратился к Митьке сотник, поправляя пенсне и любуясь могучими грудными мускулами Митькиного жеребца.
— От тополя до Царева пруда.
— Где это Царев пруд? — Сотник близоруко сощурился.
— А вон, ваше благородие, возле леса.
Лошадей построили. Сотник поднял над головою плетку. Погон на его плече вспух бугром.
— Как скажу «три» — пускать! Ну? Раз, два… три!
Первый рванулся сотник, припадая к луке, придерживая рукой фуражку. Он на секунду опередил остальных. Митька с растерянно-бледным лицом привстал на стременах — казалось Григорию, томительно долго опускал на круп жеребца подтянутую над головой плеть.
От тополя до Царева пруда — версты три. На полпути Митькин жеребец, вытягиваясь в стрелку, настиг кобылицу сотника. Григорий скакал нехотя. Отстав с самого начала, он ехал куцым намётом, с любопытством наблюдая за удалявшейся, разбитой на звенья цепкой скакавших.
Возле Царева пруда — наносный от вешней воды песчаный увал. Желтый верблюжий горб его чахло порос остролистым змеиным луком. Григорий видел, как на увал разом вскочили и стекли на ту сторону сотник и Митька, за ними поодиночке скользили остальные.
Когда подъехал он к пруду, потные лошади уже стояли кучей, спешившиеся ребята окружали сотника. Митька лоснился сдерживаемой радостью. Торжество сквозило в каждом его движении. Сотник, против ожидания, показался Григорию нимало не сконфуженным: он, прислонясь к дереву, покуривая папироску, говорил, указывая мизинцем на свою, словно выкупанную, кобылицу:
— Я на ней сделал пробег в полтораста верст. Вчера только приехал со станции. Будь она посвежей — никогда, Коршунов, не обогнал бы ты меня.
— Могет быть, — великодушничал Митька.
— Резвей его жеребца по всей округе нету, — завидуя, сказал веснушчатый паренек, прискакавший последним.
— Конь добрячий. — Митька дрожащей от пережитого волнения рукой похлопал по шее жеребца и, деревянно улыбаясь, глянул на Григория.
Они вдвоем отделились от остальных, поехали под горою, а не улицей. Сотник попрощался с ними холодновато, сунул два пальца под козырек и отвернулся.
Уже подъезжая по проулку к двору, Григорий увидел шагавшую им навстречу Аксинью. Шла она, ощипывая хворостинку; увидела Гришку — ниже нагнула голову.
— Чего застыдилась, аль мы телешами едем? — крикнул Митька и подмигнул: — Калинушка моя, эх, горьковатенькая!
Григорий, глядя перед собой, почти проехал мимо и вдруг огрел мирно шагавшую кобылу плетью. Та присела на задние ноги — взлягнув, забрызгала Аксинью грязью.
— И-и-и, дьявол дурной!
Круто повернув, наезжая на Аксинью разгоряченной лошадью, Григорий спросил:
— Чего не здороваешься?
— Не сто́ишь того!
— За это вот и обляпал — не гордись!
— Пусти! — крикнула Аксинья, махая руками перед мордой лошади. — Что ж ты меня конем топчешь?
— Это кобыла, а не конь.
— Все одно пусти!
— За что серчаешь, Аксютка? Неужели за надышнее, что в займище?..
Григорий заглянул ей в глаза. Аксинья хотела что-то сказать, но в уголке черного ее глаза внезапно нависла слезинка; жалко дрогнули губы. Она, судорожно глотнув, шепнула:
— Отвяжись, Григорий… Я не серчаю… Я… — И пошла.
Удивленный Григорий догнал Митьку у ворот.
— Придешь ноне на игрище? — спросил тот.
— Нет.
— Что так? Либо ночевать покликала?
Григорий потер ладонью лоб и не ответил.
VIII (II)
Редкие в пепельном рассветном небе зыбились звезды. Из-под туч тянул ветер. Над Доном на дыбах ходил туман и, пластаясь по откосу меловой горы, сползал в яры серой безголовой гадюкой. Левобережное Обдонье, пески, ендовы, камышистая непролазь, лес в росе — полыхали исступленным холодным заревом. За чертой, не всходя, томилось солнце.
В мелеховском курене первый оторвался ото сна Пантелей Прокофьевич. Застегивая на ходу ворот расшитой крестиками рубахи, вышел на крыльцо. Затравевший двор выложен росным серебром. Выпустил на проулок скотину. Дарья в исподнице пробежала доить коров. На икры белых босых ее ног молозивом брызгала роса, по траве через баз лег дымчатый примятый след.
Пантелей Прокофьевич поглядел, как прямится примятая Дарьиными ногами трава, пошел в горницу.
На подоконнике распахнутого окна мертвенно розовели лепестки отцветавшей в палисаднике вишни. Григорий спал ничком, кинув наотмашь руку.
— Гришка, рыбалить поедешь?
— Чего ты? — шепотом спросил тот и свесил с кровати ноги.
— Поедем, посидим зорю.
Григорий, посапывая, стянул с подвески будничные шаровары, вобрал их в белые шерстяные чулки и долго надевал чирик, выправляя подвернувшийся задник.
— А приваду маманя [п]арила?* — сипло спросил он, выходя за отцом в сенцы.
— [П]арила. Иди к баркасу, я зараз.
Старик ссыпал в рубашку распаренное пахучее жито, по-хозяйски смел на ладонь упавшие зерна и, припадая на левую ногу, захромал к спуску. Григорий, нахохлясь, сидел в баркасе.
— Куда править?
— К Черному яру. Спробуем возле энтой ка́рши, где надысь сидели.
Баркас, черканув кормою землю, осел в воде, оторвался от берега. Стремя понесло его, покачивая, норовя повернуть боком**. Григорий, не огребаясь, правил веслом.
— Гребани, что ль.
— А вот на середку вылупимся.
Пересекая быстрину, баркас двинулся к левому берегу. От хутора догоняли их глухие на воде петушиные переклики. Чертя бортом черный хрящеватый яр, лежавший над водой урубом, баркас причалил к котловине. Саженях в пяти от берега виднелись из воды раскоряченные ветви затонувшего вяза. Вокруг него коловерть гоняла бурые комья пены.
— Разматывай, а я заприважу, — шепнул Григорию отец и сунул ладонь в парное зевло кубышки.
Жито четко брызнуло по воде, словно кто вполголоса шепнул — «шик!». Григорий нанизал на крючок взбухшие зерна, улыбнулся.
— Ловись, ловись, рыбка большая и малая.
Ле’са, упавшая в воду кругами, вытянулась струной и снова ослабла, едва грузило коснулось дна. Григорий ногой придавил конец удилища, полез, стараясь не шелохнуться, за кисетом.
— Не будет, батя, дела… Месяц на ущербе.
— Серники захватил?
— Ага.
— Дай огню.
Старик закурил, поглядел на солнце, застрявшее по ту сторону коряги.
— Сазан, он разно берет. И на ущербе иной раз возьмется.
— Чу́тно, мелочь насадку обсекает, — вздохнул Григорий.
Возле баркаса, хлюпнув, схлынула вода, и [полутора]аршинный***, словно слитый из красной меди, сазан со стоном прыгнул вверх, сдвоив по воде изогнутым лопушистым хвостом. Зернистые брызги засеяли баркас.
— Теперя жди! — Пантелей Прокофьевич вытер рукавом мокрую бороду.
Около затонувшего вяза, в рукастых оголенных ветвях одновременно выпрыгнули два сазана; третий, поменьше, ввинчиваясь в воздух, настойчиво раз за разом бился у яра.
* * *
Григорий нетерпеливо жевал размокший конец самокрутки. Неяркое солнце стало в полдуба. Пантелей Прокофьевич израсходовал всю приваду и, недовольно подобрав губы, тупо глядел на недвижный конец удилища.
Григорий выплюнул остаток цыгарки, злобно проследил за стремительным его полетом. В душе он ругал отца за то, что разбудил спозаранку, не дал выспаться. Во рту от выкуренного натощак табаку воняло припаленной щетиной. Нагнулся было зачерпнуть в пригоршню воды, — в это время конец удилища, торчавший на пол-аршина от воды, слабо качнулся, медленно пополз книзу.
— Засекай! — выдохнул старик.
Григорий, встрепенувшись, потянул удилище, но конец стремительно зарылся в воду, удилище согнулось от руки обручем. Словно воротом, огромная сила тянула вниз тугое красноталовое удилище.
— Держи! — стонал старик, отпихивая баркас от берега.
Григорий силился поднять удилище и не мог. Сухо чмокнув, лопнула толстая леса. Григорий качнулся, теряя равновесие.
— Ну и бугай! — пришептывал Пантелей Прокофьевич, не попадая жалом крючка в насадку.
Взволнованно посмеиваясь, Григорий навязал новую лесу, закинул.
Едва грузило достигло дна, конец погнуло.
— Вот он, дьявол!.. — хмыкнул Григорий, с трудом отрывая от дна метнувшуюся к стремени рыбу.
Леса, пронзительно брунжа, зачертила воду, за ней [колотилась] полотном [стоялая] вода****. Пантелей Прокофьевич перебирал обрубковатыми пальцами держак черпала.
— Заверни его на воду! Держи, а то пилой рубанет!
— Небось!
Большой изжелта-красный сазан поднялся на поверхность, вспенил воду и, угнув тупую лобастую голову, опять шарахнулся вглубь.
— Давит, аж рука занемела… Нет, погоди!
— Держи, Гришка!
— Держу-у-у!
— Гляди, под баркас не пущай!.. Гляди!
Переводя дух, подвел Григорий к баркасу лежавшего на боку сазана. Старик сунулся было с черпалом, но сазан, напрягая последние силы, вновь ушел в глубину.
— Голову ему подымай! Нехай глотнет ветру, он посмирнеет.
Выводив, Григорий снова подтянул к баркасу измученного сазана. Зевая широко раскрытым ртом, тот ткнулся носом в шершавый борт и стал, переливая шевелящееся оранжевое золото плавников.
— Отвоевался! — крякнул Пантелей Прокофьевич, поддевая его черпалом.
Посидели еще с полчаса. Стихал сазаний бой.
— Сматывай, Гришка. Должно, последнего запрягли, ишо не дождемся.
Собрались. Григорий оттолкнулся от берега. Проехали половину пути. По лицу отца Григорий видел, что хочет тот что-то сказать, но старик молча поглядывал на разметанные под горой дворы хутора.
— Ты, Григорий, вот что… — нерешительно начал он, теребя завязки лежавшего под ногами мешка, — примечаю, ты, никак, с Аксиньей Астаховой…
Григорий густо покраснел, отвернулся. Воротник рубахи, врезаясь в мускулистую прижженную солнцегревом шею, выдавил белую полоску.
— Ты гляди, парень, — уже жестко и зло продолжал старик, — я с тобой не так загутарю. Степан нам сосед, и с его бабой не дозволю баловать. Тут дело могет до греха взыграть, а я наперед упреждаю: примечу — запорю!
Пантелей Прокофьевич ссучил пальцы в узловатый кулак, — жмуря выпуклые глаза, глядел, как с лица сына сливала кровь.
— Наговоры, — глухо, как из воды, буркнул Григорий и прямо в синеватую переносицу поглядел отцу.
— Ты помалкивай.
— Мало что люди гутарют…
— Цыц, сукин сын!
Григорий слег над веслом. Баркас заходил скачками. Завитушками заплясала люлюкающая за кормой вода.
До пристани молчали оба. Уже подъезжая к берегу, отец напомнил:
— Гляди, не забудь, а нет — с нонешнего дня прикрыть все игрища. Чтоб с базу ни шагу. Так-то!
Промолчал Григорий. Примыкая баркас, спросил:
— Рыбу бабам отдать?
— Понеси купцам продай, — помягчел старик, — на табак разживешься.
Покусывая губы, шел Григорий позади отца. «Выкуси, батя, хоть стреноженный уйду ноне на игрище», — думал, злобно обгрызая глазами крутой отцовский затылок.
Дома Григорий заботливо смыл с сазаньей чешуи присохший песок, продел сквозь жабры хворостинку.
У ворот столкнулся с давнишним другом-одногодком Митькой Коршуновым. Идет Митька, играет концом наборного пояска. Из узеньких щелок желто маслятся круглые с наглинкой глаза. Зрачки — кошачьи, поставленные торчмя, оттого взгляд Митькин текуч, неуловим.
— Куда с рыбой?
— Нонешняя добыча. Купцам несу.
— Моховым, что ли?
— Им.
Митька на глазок взвесил сазана.
— Фунтов пятнадцать?
— С половиной. На безмене прикинул.
— Возьми с собой, торговаться буду.
— Пойдем.
— А магарыч?
— Сладимся, нечего впустую брехать.
От обедни рассыпался по улицам народ.
По дороге рядышком вышагивали три брата по кличке Шамили.
Старший, безрукий Алексей, шел в середине. Тугой воротник мундира прямил ему жилистую шею, редкая, курчавым клинышком, бороденка задорно топорщилась вбок, левый глаз нервически подмаргивал. Давно на стрельбище разорвало в руках у Алексея винтовку, кусок затвора изуродовал щеку. С той поры глаз к делу и не к делу подмигивает; голубой шрам, перепахивая щеку, зарывается в кудели волос. Левую руку оторвало по локоть, но и одной крутит Алексей цыгарки искусно и без промаха: прижмет кисет к выпуклому заслону груди, зубами оторвет нужный клочок бумаги, согнет его желобком, нагребет табаку и неуловимо поведет пальцами, скручивая. Не успеет человек оглянуться, а Алексей, помаргивая, уже жует готовую цыгарку и просит огоньку.
Хоть и безрукий, а первый в хуторе кулачник. И кулак не особенно чтоб особенный — так, с тыкву-травянку величиной; а случилось как-то на пахоте на быка осерчать, кнут затерялся, — стукнул кулаком — лег бык на борозде, из ушей кровь, насилу отлежался. Остальные братья — Мартин и Прохор — до мелочей схожи с Алексеем. Такие же низкорослые, шириной в дуб, только рук у каждого по паре.
Григорий поздоровался с Шамилями, Митька прошел, до хруста отвернув голову. На масленице в кулачной стенке не пожалел Алешка Шамиль молодых Митькиных зубов, махнул наотмашь, и выплюнул Митька на сизый, изодранный коваными каблуками лед два коренных зуба.
Ровняясь с ними, Алексей мигнул раз пять подряд.
— Продай чурбака!
— Купи.
— Почем просишь?
— Пару быков да жену впридачу.
Алексей, щурясь, замахал обрубком руки:
— Чудак, ах, чудак!.. Ох-хо-ха, жену… А приплод возьмешь?
— Себе на завод оставь, а то Шамили переведутся, — зубоскалил Григорий.
На площади у церковной ограды кучился народ. В толпе ктитор1, поднимая над головой гуся, выкрикивал: «Полтинник! От-да-ли. Кто больше?»
Гусь вертел шеей, презрительно жмурил бирюзинку глаза.
В кругу рядом махал руками седенький, с крестами и медалями, завесившими грудь, старичок.
— Наш дед Гришака про турецкую войну брешет. — Митька указал глазами. — Пойдем послухаем?
— Покель будем слухать — сазан провоняется, распухнет.
— Распухнет — весом прибавит, нам выгода.
На площади, за пожарным сараем, где рассыхаются пожарные бочки с обломанными оглоблями, зеленеет крыша моховского дома. Шагая мимо сарая, Григорий сплюнул и зажал нос. Из-за бочки, застегивая шаровары — пряжка в зубах, — вылезал старик.
— Приспичило? — съязвил Митька.
Старик управился с последней пуговицей и вынул изо рта пряжку.
— А тебе что?
— Носом навтыкать бы надо! Бородой! Бородой! Чтоб старуха за неделю не отбанила.
— Я тебе, стерва, навтыкаю! — обиделся старик.
Митька стал, щуря кошачьи глаза как от солнца.
— Ишь ты, благородный какой. Сгинь, сукин сын! Что присучился? А то и ремнем!
Посмеиваясь, Григорий подошел к крыльцу моховского дома. Перила — в густой резьбе дикого винограда. На крыльце пятнистая ленивая тень.
— Во, Митрий, живут люди…
— Ручка и то золоченая. — Митька приоткрыл дверь на террасу и фыркнул: — Деда бы энтого направить сюда…
— Кто там? — окликнули их с террасы.
Робея, Григорий пошел первый. Крашеные половицы мел сазаний хвост.
— Вам кого?
В плетеной качалке — девушка. В руке блюдце с клубникой. Григорий молча глядел на розовое сердечко полных губ, сжимавших ягодку. Склонив голову, девушка оглядывала пришедших.
На помощь Григорию выступил Митька. Он кашлянул.
— Рыбки не купите?
— Рыбы? Я сейчас скажу.
Она качнула кресло, вставая, — зашлепала вышитыми, надетыми на босые ноги туфлями. Солнце просвечивало белое платье, и Митька видел смутные очертания полных ног и широкое волнующееся кружево нижней юбки. Он дивился атласной белизне оголенных икр, лишь на круглых пятках кожа молочно желтела.
Митька толкнул Григория.
— Гля, Гришка, ну и юбка… Как скло, насквозь все видать.
Девушка вышла из коридорных дверей, мягко присела на кресло.
— Пройдите на кухню.
Ступая на носках, Григорий пошел в дом. Митька, отставив ногу, жмурился на белую нитку пробора, разделявшую волосы на ее голове на два золотистых полукруга. Девушка оглядела его озорными, неспокойными глазами.
— Вы здешний?
— Тутошний.
— Чей же это?
— Коршунов.
— А звать вас как?
— Митрием.
Она внимательно осмотрела розовую чешую ногтей, быстрым движением подобрала ноги.
— Кто из вас рыбу ловит?
— Григорий, друзьяк мой.
— А вы рыбалите?
— Рыбалю и я, коль охота набредет.
— Удочками?
— И удочками рыбалим, по-нашему — притугами.
— Мне бы тоже хотелось порыбалить, — сказала она, помолчав.
— Что ж, поедем, коль охота есть.
— Как бы это устроить? Нет, серьезно?
— Вставать надо дюже рано.
— Я встану, только разбудить меня надо.
— Разбудить можно… А отец?
— Что отец?
Митька засмеялся.
— Как бы за вора не почел… Собаками ишо притравит.
— Глупости! Я сплю одна в угловой комнате. Вот это окно. — Она указала пальцем. — Если придете за мной — постучите мне в окошко, и я встану.
В кухне дробились голоса: робкий — Григория, и густой, мазутный — кухарки.
Митька, перебирая тусклое серебро казачьего пояска, молчал.
— Женаты вы? — спросила девушка, тепля затаенную улыбку.
— А что?
— Так просто, интересно.
— Нет, холостой.
Митька внезапно покраснел, а она, играя улыбкой и веточкой осыпавшейся на пол тепличной клубники, спрашивала:
— Что же, Митя, девушки вас любят?
— Какие любят, а какие и нет.
— Ска-жи-те… А отчего это у вас глаза, как у кота?
— У… кота? — вконец терялся Митька.
— Вот именно, кошачьи.
— Это от матери, должно… Я тут ни при чем.
— А почему же, Митя, вас не женят?
Митька оправился от минутного смущения и, чувствуя в словах ее неуловимую насмешку, замерцал желтизною глаз.
— Женилка не выросла.
Она изумленно взметнула брови, вспыхнула и встала.
С улицы по крыльцу шаги.
Ее коротенькая, таящая смех улыбка жиганула Митьку крапивой. Сам хозяин, Сергей Платонович Мохов, мягко шаркая шевровыми просторными ботинками, с достоинством пронес мимо посторонившегося Митьки свое полнеющее тело.
— Ко мне? — спросил, пройдя, не поворачивая головы.
— Это, папа, рыбу принесли.
Вышел с порожними руками Григорий.
———————————————————————————————-
*Рыбаки «приваду» (подкормку для рыб обычно из зерен пшеницы, ржи или ячменя) не варят, а парят. Отсутствующее в изданиях исправление обнаруживаем в «черновой» рукописи: поверх «– Кашу-то варила мать?» («Черновая», с. 5) читаем: «– Приваду-то парила мать?» Однако в дальнейших «редакциях»: «– Приваду варила мать?» («Перебеленная», с. 5); «– А приваду маманя варила?» («Беловая», с. 5). (Прим. А. Ч.)
**Близкую параллель обнаружил С. Л. Рожков. Стремя – стремнина реки, быстрое течение (ДС). У Крюкова в очерке читаем: «В одном месте едва не опрокинулись: попали на каменное заграждение, образовавшее порог. Быстрым потоком бросило нас на камень, повернуло лодку бортом поперек стремени, и „Энэс“ едва не хлебнул водицы. Но… „упором“ выровнялись, снялись и благополучно вынеслись в безопасное русло» («Мельком», гл. 5. РБ, 1914, № 8. С. 171). Сравним: «Баркас царапнув кормою дно [скользнул] осел в воде и отошел от берега. Стремя подхватило его, понесло покачивая, норовя повернуть боком. Григорий не огребаясь правил веслом» (ТД, «черновик» 1 ред. С. 5). (Прим. А. Ч.)
***В шолоховском «черновике» (с. 6) «огромный, аршина в полтора сазан» позднее стал «аршина в два» (позднейшая правка фиолетовыми чернилами поверх черных). Но в природе максимальная длина сазана именно полтора аршина (немногим более метра), а вес до 20 кг. Сазан в 15,5 фунтов, как выяснил Григорий при помощи безмена (около 6,5 кг) тем более не может быть «двухаршинным» (то есть почти полуметровым), поскольку сазан рыбы тушистая и просто не может так исхудать. Перед нами типичная шолоховская правка. В первой книге встречаем целый ряд подобных примеров: это и увеличение запасов хлеба на моховской мельнице (в пудах), и увеличение покрытого всадником за день расстояния. Именно за приписки такого рода (только не в чужой прозе, а в финансовых документах) и был судим в 1922 году юный, но вороватый каргинский счетовод Мишка.
****В шолоховском издании: «…за ней косым зеленоватым полотном вставала вода». По «черновику» (с. 7): «…за ней коротеньким полотном стояла вода». По «перебеленной» (с. 6) и «беловой» (с. 6): «…за ней косым зеленоватым полотном вставала вода». Ни редакторы, ни юный мародер не сумели прочитать текст: если на крючок села большая рыбина, стоялая вода (в котлине/коловине, у берега, за затонувшим вязом) будет колотиться, как полотно при стирке и полоскании. (Прим. А. Ч.)
IX
От Троицы только и осталось по хуторским дворам: сухой чобор, рассыпанный на полах, пыль мятых листьев да морщиненая, отжившая зелень срубленных дубовых и ясеневых веток, приткнутых возле ворот и крылец.
С Троицы начался луговой покос. С самого утра зацвело займище праздничными бабьими юбками, ярким шитвом завесок, красками платков. Выходили на покос всем хутором сразу. Косцы и гребельщицы одевались будто на годовой праздник. Так повелось исстари. От Дона до дальних ольховых зарослей шевелился и вздыхал под косами опустошаемый луг.
Мелеховы припозднились. Выехали на покос, когда уже на лугу была чуть не половина хутора.
— Долго зорюешь, Пантелей Прокофич! — шумели припотевшие косари.
— Не моя вина, бабья! — усмехался старик и торопил быков плетенным из сырца кнутом.
— Доброе здоровье, односум! Припозднился, браток, припозднился… — Высокий казак в соломенной шляпе качал головой, отбивая у дороги косу.
— Аль трава пересохнет?
— Рысью поедешь — успеешь, а то и пересохнет. Твой улеш в каком месте?
— А под Красным яром.
— Ну, погоняй рябых, а то не доедешь ноне.
Позади на арбе сидела Аксинья, закутавшая от солнца платком все лицо. Из узкой, оставленной для глаз щели она смотрела на сидевшего против нее Григория равнодушно и строго. Дарья, тоже укутанная и принаряженная, свесив между ребер арбы ноги, кормила длинной, в прожилках, грудью засыпавшего на руках ребенка. Дуняшка подпрыгивала на грядушке, счастливыми глазами разглядывая луг и встречавшихся по дороге людей. Лицо ее, веселое, тронутое загаром и у переносицы веснушками, словно говорило: «Мне весело и хорошо оттого, что день, подсиненный безоблачным небом, тоже весел и хорош; оттого, что на душе вот такой же синий покой и чистота. Мне радостно, и больше я ничего не хочу». Пантелей Прокофьевич, натягивая на ладонь рукав бязевой рубахи, вытирал набегавший из-под козырька пот. Согнутая спина его, плотно облитая рубахой, темнела мокрыми пятнами. Солнце насквозь пронизывало седой каракуль туч, опускало на далекие серебряные обдонские горы, степь, займище и хутор веер дымчатых преломленных лучей.
День перекипал в зное. Обдерганные ветром тучки ползли вяло, не обгоняя тянувшихся по дороге быков Пантелея Прокофьевича. Сам он тяжело поднимал кнут, помахивал им, словно в нерешительности: ударить по острым бычьим кострецам или нет. Быки, видно, понимая это, не прибавляли шагу, так же медленно, ощупью переставляли клешнятые ноги, мотали хвостами. Пыльно-золотистый с оранжевым отливом слепень кружился над ними.
Луг, скошенный возле хуторских гумен, светлел бледнозелеными пятнами; там, где еще не сняли травы, ветерок шершавил зеленый с глянцевитой чернью травяной шелк.
— Вот наша делянка. — Пантелей Прокофьевич махнул кнутом.
— От лесу будем зачинать? — спросил Григорий.
— Можно и с этого краю. Тут я глаголь вырубил лопатой.
Григорий отпряг занудившихся быков. Старик, посверкивая серьгой, пошел искать отметину — вырубленный у края глаголь.
— Бери косы! — вскоре крикнул он, махая рукой.
Григорий пошел, уминая траву. От арбы по траве потек за ним колыхающийся след. Пантелей Прокофьевич перекрестился на беленький стручок далекой колокольни, взял косу. Горбатый нос его блистал, как свежелакированный, во впадинах черных щек томилась испарина. Он улыбнулся, разом обнажив в вороной бороде несчетное число белых, частых зубов, и занес косу, поворачивая морщинистую шею вправо. Саженное полукружье смахнутой травы легло под его ногами.
Григорий шел за ним следом, полузакрыв глаза, стелил косой травье. Впереди рассыпанной радугой цвели бабьи завески, но он искал глазами одну, белую с прошитой каймой; оглядывался на Аксинью и, снова приноравливаясь к отцову шагу, махал косой.
Аксинья неотступно была в его мыслях; полузакрыв глаза, мысленно целовал ее, говорил ей откуда-то набредавшие на язык горячие и ласковые слова, потом отбрасывал это, шагал под счет — раз, два, три; память подсовывала отрезки воспоминаний: «Сидели под мокрой копной… в ендове свиристела турчелка… месяц над займищем… и с куста в лужину редкие капли вот так же — раз, два, три… Хорошо, ах, хорошо-то!..»
Возле стана засмеялись. Григорий оглянулся: Аксинья, наклоняясь, что-то говорила лежащей под арбой Дарье, та замахала руками, и снова обе засмеялись. Дуняшка сидела на вие1, тонюсеньким голоском пела.
«Дойду вон до энтого кустика, косу отобью», — подумал Григорий и почувствовал, как коса прошла по чему-то вязкому. Нагнулся посмотреть: из-под ног с писком заковылял в траву маленький дикий утенок. Около ямки, где было гнездо, валялся другой, перерезанный косой надвое, остальные с чулюканьем рассыпались по траве. Григорий положил на ладонь перерезанного утенка. Изжелта-коричневый, на днях только вылупившийся из яйца, он еще таил в пушке живое тепло. На плоском раскрытом клювике розовенький пузырек кровицы, бисеринка глаза хитро прижмурена, мелкая дрожь горячих еще лапок.
Григорий с внезапным чувством острой жалости глядел на мертвый комочек, лежавший у него на ладони.
— Чего нашел, Гришунька?..
По скошенным рядам, подпрыгивая, бежала Дуняшка. На груди ее метались мелко заплетенные косички. Морщась, Григорий уронил утенка, злобно махнул косой.
Обедали на-скорях. Сало и казачья присяга — откидное кислое молоко, привезенное из дому в сумке, — весь обед.
— Домой ехать не из чего, — сказал за обедом Пантелей Прокофьевич. — Пущай быки пасутся в лесу, а завтра, покель подберет солнце росу, докосим.
После обеда бабы начали гресть. Скошенная трава вяла и сохла, излучая тягучий дурманящий аромат.
Смеркалось, когда бросили косить. Аксинья догребла оставшиеся ряды, пошла к стану варить кашу. Весь день она зло высмеивала Григория, глядела на него ненавидящими глазами, словно мстила за большую, незабываемую обиду. Григорий, хмурый и какой-то полинявший, угнал к Дону — поить — быков. Отец наблюдал за ним и за Аксиньей все время. Неприязненно поглядывая на Григория, сказал:
— Повечеряешь, а посля постереги быков. Гляди, в траву не пущай. Зипун мой возьмешь.
Дарья уложила под арбой дитя и с Дуняшкой пошла в лес за хворостом.
Над займищем по черному недоступному небу, избочившись, шел молодой месяц. Над огнем метелицей порошили бабочки. Возле костра на раскинутом ряднище собрали вечерять. В полевом задымленном котле перекипала каша. Дарья подолом исподней юбки вытерла ложки, крикнула Григорию:
— Иди вечерять!
Григорий в накинутом на плечи зипуне вылез из темноты, подошел к огню.
— Ты чего это такой ненастный? — улыбнулась Дарья.
— К дождю, видно, поясницу ломит, — попробовал Григорий отшутиться.
— Он быков стеречь не хочет, ей-богу. — Дуняшка улыбнулась, подсаживаясь к брату, заговорила с ним, но разговор как-то не плелся.
Пантелей Прокофьевич истово хлебал кашу, хрустел на зубах недоваренным пшеном. Аксинья ела, не поднимая глаз, на шутки Дарьи нехотя улыбалась. Испепеляя щеки, сжигал ее беспокойный румянец.
Григорий встал первый, ушел к быкам.
— Гляди, траву чужую быками не потрави! — вслед ему крикнул отец и поперхнулся кашей, долго трескуче кашлял.
Дуняшка пыжила щеки, надуваясь смехом. Догорал огонь. Тлеющий хворост обволакивал сидевших медовым запахом прижженной листвы.
* * *
В полночь Григорий, крадучись, подошел к стану, стал шагах в десяти. Пантелей Прокофьевич сыпал на арбу переливчатый храп. Из-под пепла золотым павлиньим глазком высматривал не залитый с вечера огонь.
От арбы оторвалась серая укутанная фигура и зигзагами медленно двинулась к Григорию. Не доходя два-три шага, остановилась. Аксинья. Она. Гулко и дробно сдвоило у Григория сердце; приседая, шагнул вперед, откинув полу зипуна, прижал к себе послушную, полыхающую жаром. У нее подгибались в коленях ноги, дрожала вся, сотрясаясь, вызванивая зубами. Рывком кинул ее Григорий на руки — так кидает волк к себе на хребтину зарезанную овцу, — путаясь в полах распахнутого зипуна, задыхаясь, пошел.
— Ой, Гри-и-иша… Гри-шень-ка!.. Отец…
— Молчи!..
Вырываясь, дыша в зипуне кислиной овечьей шерсти, давясь горечью раскаяния, Аксинья почти крикнула низким стонущим голосом:
— Пусти, чего уж теперь… Сама пойду!..
X
Не лазоревым алым цветом, а собачьей бесилой, дурнопьяном придорожным цветет поздняя бабья любовь.
С лугового покоса переродилась Аксинья. Будто кто отметину сделал на ее лице, тавро выжег. Бабы при встрече с ней ехидно ощерялись, качали головами вслед, девки завидовали, а она гордо и высоко несла свою счастливую, но срамную голову.
Скоро про Гришкину связь узнали все. Сначала говорили об этом шепотом, — верили и не верили, — но после того как хуторской пастух Кузька Курносый на заре увидел их возле ветряка, лежавших под неярким светом закатного месяца в невысоком жите, мутной прибойной волной покатилась молва.
Дошло и до ушей Пантелея Прокофьевича. Как-то в воскресенье пошел он к Мохову в лавку. Народу — не дотолпишься. Вошел — будто раздались, заулыбались. Протиснулся к прилавку, где отпускали мануфактуру. Товар ему взялся отпускать сам хозяин, Сергей Платонович.
— Что-то тебя давненько не видать, Прокофич?
— Делишки всё. Неуправка в хозяйстве.
— Что так? Сыны вон какие, а неуправка.
— Что ж сыны-то: Петра в лагеря проводил, двое с Гришкой и ворочаем.
Сергей Платонович надвое развалил крутую гнедоватую бородку, многозначительно скосил глаза на толпившихся казаков.
— Да, голубчик, ты что же это примолчался-то?
— А что?
— Как что? Сына задумал женить, а сам ни гу-гу.
— Какого сына?
— Григорий у тебя ведь не женатый.
— Покедова ишо не собирался женить.
— А я слышал, будто в снохи берешь… Степана Астахова Аксинью.
— Я? От живого мужа… Да ты что ж, Платоныч, навроде смеешься? А?
— Какой смех! Слышал от людей.
Пантелей Прокофьевич разгладил на прилавке развернутую штуку материи и, круто повернувшись, захромал к выходу. Он направился прямо домой. Шел, по-бычьи угнув голову, сжимая связку жилистых пальцев в кулак; заметней припадал на хромую ногу. Минуя астаховский двор, глянул через плетень: Аксинья нарядная, помолодевшая, покачиваясь в бедрах, шла в курень с порожним ведром.
— Эй, погоди-ка!..
Пантелей Прокофьевич чертом попер в калитку. Аксинья стала, поджидая его. Вошли в курень. Чисто выметенный земляной пол присыпан красноватой супесью, в переднем углу на лавке вынутые из печи пироги. Из горницы пахнет слежалой одеждой и почему-то — анисовыми яблоками.
Под ноги Пантелею Прокофьевичу подошел было поластиться рябой большеголовый кот. Сгорбил спину и дружески толкнулся о сапог. Пантелей Прокофьевич шваркнул его об лавку и, глядя Аксинье в брови, крикнул:
— Ты что ж это?.. А? Не остыл мужьин след, а ты уже хвост набок! Гришке я кровь спущу за это самое, а Степану твоему пропишу!..
Пущай знает!.. Ишь ты, курва, мало тебя били… Чтоб с нонешнего дня и ноги твоей на моем базу не ступало. Шашлы заводить с парнем, а Степан придет да мне же…
Аксинья, сузив глаза, слушала. И вдруг бесстыдно мотнула подолом, обдала Пантелея Прокофьевича запахом бабьих юбок и грудью пошла на него, кривляясь и скаля зубы.
— Ты что мне, свекор? А? Свекор?.. Ты что меня учишь? Иди свою толстозадую учи! На своем базу распоряжайся!.. Я тебя, дьявола хромого, культяпого, в упор не вижу!.. Иди отсель, не спужаешь!
— Погоди, дура!
— Нечего годить, тебе не родить!.. Ступай, откель пришел! А Гришку твоего, захочу — с костями съем и ответа держать не буду!.. Вот на! Выкуси! Ну, люб мне Гришка. Ну? Вдаришь, что ль?.. Мужу пропишешь?.. Пиши хучь наказному атаману, а Гришка мой! Мой! Мой! Владаю им и буду владать!..
Аксинья напирала на оробевшего Пантелея Прокофьевича грудью (билась она под узкой кофточкой, как стрепет в силке), жгла его полымем черных глаз, сыпала слова — одно другого страшней и бесстыжей. Пантелей Прокофьевич, подрагивая бровями, отступал к выходу, нащупал поставленный в углу костыль, и махая рукой, задом отворил дверь. Аксинья вытесняла его из сенцев, задыхаясь, выкрикивала, бесновалась:
— За всю жизнь за горькую отлюблю!.. А там хучь убейте! Мой Гришка! Мой!
Пантелей Прокофьевич, что-то булькая себе в бороду, зачикилял к дому.
Гришку он нашел в горнице. Не говоря ни слова, достал его костылем вдоль спины. Григорий, изогнувшись, повис на отцовской руке.
— За что, батя?
— За дело, су-у-у-кин сын!..
— За что?
— Не пакости соседу! Не страми отца! Не таскайся, кобелина! — хрипел Пантелей Прокофьевич, тягая по горнице Григория, силясь вырвать костыль.
— Драться не дам! — глухо сапнул Григорий и, стиснув челюсти, рванул костыль. На колено его и — хряп!..
Пантелей Прокофьевич — сына по шее тугим кулаком.
— На сходе запорю!.. Ах, ты, чертово семя, прокля-я-а-а-тый сын! — Он сучил ногами, намереваясь еще раз ударить. — На Марфушке-дурочке женю!.. Я те выхолощу!.. Ишь ты!..
На шум прибежала мать.
— Прокофьич, Прокофьич!.. Охолонь трошки!.. Погоди!..
Но старик разошелся не на шутку: поднес раз жене, опрокинул столик со швейной машиной и, навоевавшись, вылетел на баз. Не успел Григорий скинуть рубаху с разорванным в драке рукавом, как дверь крепко хляснула и на пороге вновь тучей буревой укрепился Пантелей Прокофьевич.
— Женить сукиного сына!.. — Он по-лошадиному стукнул ногой, уперся взглядом в мускулистую спину Григория. — Женю!.. Завтра же поеду сватать! Дожил, что сыном в глаза смеются!
— Дай рубаху-то надеть, посля женишь.
— Женю!.. На дурочке женю!.. — Хлопнул дверью, по крыльцу протарахтели шаги и стихли.
XI
За хутором Сетраковым в степи рядами вытянулись повозки с брезентовыми будками. Невидимо быстро вырос городок, белокрыший и аккуратный, с прямыми уличками и небольшой площадкой в центре, по которой похаживал часовой.
Лагеря зажили обычной для мая месяца, ежегодно однообразной жизнью. По утрам команда казаков, караулившая на попасе лошадей, пригоняла их к лагерям. Начинались чистка, седловка, перекличка, построения. Зычно покрикивал заведующий лагерями штаб-офицер, шумоватый войсковой старшина Попов, горланили, муштруя молодых казаков, обучавшие их урядники. За бугром сходились в атаках, хитро окружали и обходили «противника». Стреляли по мишени из дробовиц. Казаки помоложе охотно состязались в рубке, постарше — отвиливали от занятий.
Люди хрипли от жары и водки, а над длинными шеренгами крытых повозок тек пахучий волнующий ветер, издалека свистели суслики, степь тянула подальше от жилья и дыма выбеленных куреней.
За неделю до выхода из лагерей к Андрею Томилину, родному брату батарейца Ивана, приехала жена. Привезла домашних, сдобных бурсаков, всякого угощенья и ворох хуторских новостей.
На другой день спозаранку уехала. Повезла от казаков домашним и близким поклоны, наказы. Лишь Степан Астахов ничего не пересылал с ней. Накануне заболел он, лечился водкой и не видел не только жены Томилина, но и всего белого света. На ученье не поехал; по его просьбе фельдшер кинул ему кровь, поставил на грудь дюжину пиявок. Степан в одной исподней рубахе сидел у колеса своей брички, — фуражка с белым чехлом мазалась, вытирая колесную мазь, — оттопырив губу, смотрел, как пиявки, всосавшись в выпуклые полушария его груди, набухали черной кровью.
Возле стоял полковой фельдшер, курил, процеживая сквозь редкие зубы табачный дым.
— Легчает?
— От грудей тянет. Сердцу, кубыть, просторней…
— Пиявки — первое средство!
К ним подошел Томилин. Мигнул.
— Степан, словцо бы сказать хотел.
— Говори.
— Поди на-час.
Степан кряхтнув, поднялся, отошел с Томилиным.
— Ну, выкладывай.
— Баба моя приезжала… Ноне уехала.
— А…
— Про твою женёнку по хутору толкуют…
— Что?
— Гутарют недобро.
— Ну?
— С Гришкой Мелеховым спуталась… В открытую.
Степан, бледнея, рвал с груди пиявок, давил их ногою. Последнюю раздавил, застегнул воротник рубахи и, словно испугавшись чего-то, снова расстегнул… Белые губы не находили покоя: подрагивая, расползались в нелепую улыбку, ежились, собираясь в синеватый комок… Томилину казалось, что Степан жует что-то твердое, неподатливое на зубы. Постепенно к лицу вернулась краска, прихваченные изнутри зубами, окаменели в недвижности губы. Степан снял фуражку, рукавом размазал по белому чехлу пятно колесной мази, сказал звонко:
— Спасибо за вести.
— Хотел упредить… Ты извиняй… Так, мол, и так дома…
Томилин сожалеюще хлопнул себя по штанине и ушел к нерасседланному коню. Лагеря в гуле голосов. Приехали с рубки казаки. Степан с минуту стоял, разглядывая сосредоточенно и строго черное пятно на фуражке. На сапог ему карабкалась полураздавленная, издыхающая пиявка.
XII
Оставалось полторы недели до прихода казаков из лагерей.
Аксинья неистовствовала в поздней горькой своей любви. Несмотря на угрозы отца, Григорий, таясь, уходил к ней с ночи и возвращался с зарей.
За две недели вымотался он, как лошадь, сделавшая непосильный пробег.
От бессонных ночей коричневая кожа скуластого его лица отливала синевою, из ввалившихся глазниц устало глядели черные, сухие глаза.
Аксинья ходила, не кутая лица платком, траурно чернели глубокие ямы под глазами; припухшие, слегка вывернутые, жадные губы ее беспокойно и вызывающе смеялись.
Так необычайна и явна была сумасшедшая их связь, так исступленно горели они одним бесстыдным полымем, людей не совестясь и не таясь, худея и чернея в лицах на глазах у соседей, что теперь на них при встречах почему-то стыдились люди смотреть.
Товарищи Григория, раньше трунившие над ним по поводу связи с Аксиньей, теперь молчали, сойдясь, и чувствовали себя в обществе Григория неловко, связанно. Бабы, в душе завидуя, судили Аксинью, злорадствовали в ожидании прихода Степана, изнывали, снедаемые любопытством. На развязке плелись их предположения.
Если б Григорий ходил к жалмерке Аксинье, делая вид, что скрывается от людей, если б жалмерка Аксинья жила с Григорием, блюдя это в относительной тайне, и в то же время не отказывала бы другим, то в этом не было бы ничего необычного, хлещущего по глазам. Хутор поговорил бы и перестал. Но они жили, почти не таясь, вязало их что-то большое, не похожее на короткую связь, и поэтому в хуторе решили, что это преступно, безнравственно, и хутор прижух в поганеньком выжиданьице: придет Степан — узелок развяжет.
В горнице над кроватью протянута веревочка. На веревочку нанизаны белые и черные порожние, без ниток, катушки. Висят для красоты. На них ночлежничают мухи, от них же к потолку — пряжа паутины. Григорий лежит на голой прохладной Аксиньиной руке и смотрит в потолок на цепку катушек. Аксинья другой рукой — огрубелыми от работы пальцами — перебирает на запрокинутой голове Григория жесткие, как конский волос, завитки. Аксиньины пальцы пахнут парным коровьим молоком; когда поворачивает Григорий голову, носом втыкаясь Аксинье в подмышку, — хмелем невыбродившим бьет в ноздри острый сладковатый бабий пот.
В горнице, кроме деревянной крашеной кровати с точеными шишками по углам, стоит возле дверей окованный уемистый сундук с Аксиньиным приданым и нарядами. Под передним углом — стол, клеенка с генералом Скобелевым, скачущим на склоненные перед ним махровитые знамена; два стула, вверху — образа в бумажных ярко-убогих ореолах. Сбоку, на стене — засиженные мухами фотографии. Группа казаков — чубатые головы, выпяченные груди с часовыми цепками, оголенные клинки палашей: Степан с товарищами еще с действительной службы. На вешалке висит неприбранный Степанов мундир. Месяц глазастеет в оконную прорезь, недоверчиво щупает две белых урядницких лычки на погоне мундира.
Аксинья со вздохом целует Григория повыше переносицы, на развилке бровей.
— Гриша, колосочек мой…
— Чего тебе?
— Осталося девять ден…
— Ишо не скоро.
— Что я, Гриша, буду делать?
— Я почем знаю.
Аксинья удерживает вздох и снова гладит и разбирает спутанный Гришкин чуб.
— Убьет меня Степан… — не то спрашивает, не то утвердительно говорит она.
Григорий молчит. Ему хочется спать. Он с трудом раздирает липнущие веки, прямо над ним — мерцающая синевою чернь Аксиньиных глаз.
— Придет муж — небось, бросишь меня? Побоишься?
— Мне что его бояться, ты — жена, ты и боись.
— Зараз, с тобой, я не боюсь, а посередь дня раздумаюсь — и оторопь возьмет…
Григорий зевает, перекатывая голову, говорит:
— Степан придет — это не штука. Батя, вон, меня женить собирается.
Григорий улыбается, хочет еще что-то сказать, но чувствует: рука Аксиньи под его головой как-то вдруг дрябло мякнет, вдавливается в подушку и, дрогнув, через секунду снова твердеет, принимает первоначальное положение.
— Кого усватали? — приглушенно спрашивает Аксинья.
— Только собирается ехать. Мать гутарила, кубыть к Коршуновым, за ихнюю Наталью.
— Наталья… Наталья — девка красивая… Дюже красивая. Что ж, женись. Надысь видала ее в церкви… Нарядная была…
Аксинья говорит быстро, но слова расползаются, не доходят до слуха неживые и бесцветные слова.
— Мне ее красоту за голенищу не класть. Я бы на тебе женился.
Аксинья резко выдергивает из-под головы Григория руку, сухими глазами смотрит в окно. По двору — желтая ночная стынь. От сарая — тяжелая тень. Свиристят кузнечики. У Дона гудят водяные быки, угрюмые басовитые звуки ползут через одинарное оконце в горницу.
— Гриша!
— Надумала что?
Аксинья хватает неподатливые, черствые на ласку Гришкины руки, жмет их к груди, к холодным, помертвевшим щекам, кричит стонущим голосом:
— На что ты, проклятый, привязался ко мне? Что я буду делать!.. Гри-и-ишка!.. Душу ты мою вынаешь!.. Сгубилась я… Придет Степан — какой ответ держать стану?.. Кто за меня вступится?..
Григорий молчит. Аксинья скорбно глядит на его красивый хрящеватый нос, на покрытые тенью глаза, на немые губы… И вдруг рвет плотину сдержанности поток чувства: Аксинья бешено целует лицо его, шею, руки, жесткую курчавую черную поросль на груди. В промежутки, задыхаясь, шепчет, и дрожь ее ощущает Григорий:
— Гриша, дружечка моя… родимый… давай уйдем. Милый мой! Кинем все, уйдем. И мужа и все кину, лишь бы ты был… На шахты уйдем, далеко. Кохать тебя буду, жалеть… На Парамоновских рудниках у меня дядя родной в стражниках служит, он нам пособит… Гриша! Хучь словцо урони.
Григорий углом переламывает левую бровь, думает и неожиданно открывает горячие свои, нерусские глаза. Они смеются. Слепят насмешкой.
— Дура ты, Аксинья, дура! Гутаришь, а послухать нечего. Ну, куда я пойду от хозяйства? Опять же на службу мне на энтот год. Не годится дело… От земли я никуда не тронусь. Тут степь, дыхнуть есть чем, а там? Прошлую зиму ездил я с батей на станцию, так было-к пропал. Паровозы ревут, дух там чижелый от горелого угля. Как народ живет — не знаю, может они привыкли к этому самому угару… — Григорий сплевывает и еще раз говорит: — Никуда я с хутора не пойду.
За окном темнеет, на месяц наплыло облачко. Меркнет желтая, разлитая по двору стынь, стираются выутюженные тени, и уже не разобрать, что темнеет за плетнем: прошлогодний порубленный хворост ли, или прислонившийся к плетню старюка-бурьян.
В горнице тоже густеет темень, блекнут Степановы урядницкие лычки на висящем у окна казачьем мундире, и в серой застойной непрогляди Григорий не видит, как у Аксиньи мелкой дрожью трясутся плечи и на подушке молча подпрыгивает стиснутая ладонями голова.
———————————————
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ПЕРЕСТАНОВКА ФРАГМЕНТА В ТРЕТЬЕЙ КНИГЕ ТД
Яр (в значении не овраг, а береговой обрыв) близ отрезанной ериком косы не зря называется Черным. Как глядящий на восток яр называется Красным. И не случайно тут же уточнено, что дело происходит «в займище» (с. 33). В шолоховском издании этот яр дважды (но не в первый раз!) ошибочно атрибуируется на левом берегу. Но на протяжении семидесяти верст от Вешенской до Усть-Медведицкой Дон течет на восток. А потому «черным», то есть недоступным для солнечных лучей, является не левый, а правый берег. Тот, у которого находится коса.
Наиболее вопиюще это смотрится у 6 части, где описано посещение Григорием своей дивизии, окопавшейся на левом берегу напротив занятого красными Татарского. Здесь описание правобережного займища с множеством говорящих хуторских реалий отнесено к левому берегу. Однако тут совсем иной пейзаж: «Левобережное Обдонье, пески, ендовы, камышистая непролазь, лес в росе» (Кн. 1, гл. II)
Фрагмент со с. 413–415 кн. 3 должен не предшествовать посещению Григория позиций окопавшихся на левобережье татарцев, а идти после непосредственно после:
* * *
«Сотня татарских пластунов поленилась рыть траншеи.
— Чертовщину выдумывают, — басил Христоня. — Что мы, на германском фронте, что ли? Рой, братишки, обнаковенные, стал-быть, окопчики по колено глубиной. Мысленное дело, стал-быть, такую заклёклую землю рыть в два аршина глуби? Да ее ломом не удолбишь, не то что лопатой.
Его послушали, на хрящеватом обрывистом яру левобережья вырыли окопчики для лежания, а в лесу поделали землянки.
— Ну, вот мы и перешли на сурчиное положение! — острил сроду не унывающий Аникушка. — В нурях будем жить, трава на пропитание пойдет, а то все бы вам блинцы с каймаком трескать, мясу, лапшу с стерлядью… А донничку не угодно?
Татарцев красные мало беспокоили. Против хутора не было батарей. Изредка лишь с правобережья начинал дробно выстукивать пулемет, посылая короткие очереди по высунувшемуся из окопчика наблюдателю, а потом опять надолго устанавливалась тишина.
Красноармейские окопы находились на горе. Оттуда тоже изредка постреливали, но в хутор красноармейцы сходили только ночью, и то ненадолго.
Подъехав к окопам татарских пластунов, Григорий послал за отцом. Где-то далеко на левом фланге Христоня крикнул:
— Прокофич! Иди скорее, стал-быть, Григорий приехал!..
Григорий спешился, передал поводья подошедшему Аникушке, еще издали увидел торопливо хромавшего отца.
— Ну, здорово, начальник!
— Здравствуй, батя.
— Приехал?
— Насилу собрался! Ну, как наши? Мать, Наталья где?
Пантелей Прокофьевич махнул рукой, сморщился. По черной щеке его скользнула слеза…
— Ну, что такое? Что с ними? — тревожно и резко спросил Григорий.
— Не переехали…
— Как так?!
— Наталья дня за два легла начисто. Тиф, должно… Ну, а старуха не захотела ее покидать… Да ты не пужайся, сынок, у них там все по-хорошему.
— А детишки? Мишатка? Полюшка?
— Тоже там. А Дуняшка переехала. Убоялась оставаться… Девичье дело, знаешь? Зараз с Аникушкиной бабой ушли на Волохов. А дома я уж два раза был. Середь ночи на баркасе тихочко перееду, ну, и проотведовал. Наталья дюже плохая, а детишечки ничего, слава богу… Без памяти Натальюшка-то, жар у ней, ажник губы кровью запеклись.
— Чего же ты их не перевез сюда? — возмущенно крикнул Григорий.
Старик озлился, обида и упрек были в его дрогнувшем голосе:
— А ты чего делал? Ты не мог прибечь загодя перевезть их?
— У меня дивизия! Мне дивизию надо было переправлять! — запальчиво возразил Григорий.
— Слыхали мы, чем ты в Вёшках займаешься…
416
Семья, кубыть, и без надобностев? Эх, Григорий! О боге надо подумывать, ежли о людях не думается… Я не тут переправлялся, а то разве я не забрал бы их? Мой взвод в Елани был, а покедова дошли сюда, красные уже хутор заняли.
— Я в Вёшках!.. Это дело тебя не касается… И ты мне… — голос Григория был хрипл и придушен.
— Да я ничего! — испугался старик, с неудовольствием оглядываясь на толпившихся неподалеку казаков. — Я не об этом… А ты потише гутарь, люди, вон, слухают… — и перешел на шепот. — Ты сам не махонькое дите, сам должон знать, а об семье не болей душой. Наталья, бог даст, почунеется, а красные их не забижают. Телушку-летошницу, правда, зарезали, а так — ничего. Поимели милость и не трогают… Зерна взяли мер сорок. Ну, да ить на войне не без урону!
— Может, их зараз бы забрать?
— Незачем, по-моему. Ну, куда ее, хворую, взять? Да и дело рисковое. Им и там ничего. Старуха за хозяйством приглядывает, оно и мне так спокойнее, а то ить в хуторе пожары были.
— Кто сгорел?
— Плац весь выгорел. Купецкие дома все больше. Сватов Коршуновых начисто сожгли. Сваха Лукинична зараз на Андроповом, а дед Гришака тоже остался дом соблюдать. Мать твоя расказывала, что он, дед Гришака-то, сказал: «Никуда со своего база не тронуся, и анчихристы ко мне не взойдут, крестного знамения убоятся». Он под конец вовзят зачал умом мешаться. Но, как видать, красюки не испужались его креста, курень и подворье ажник дымом охватились, а про него и не слыхать ничего… Да ему уж и помирать пора. Домовину исделал себе уж лет двадцать назад, а все живет… А жгет хутор друзьяк твой, пропади он пропастью!
— Кто?
— Мишка Кошевой, будь он трижды проклят!
— Да ну?!
— Он, истинный бог! У наших был, про тебя пытал. Матери так и сказал: «Как перейдем на энту сторону — Григорий ваш первый очередной будет на
417
шворку. Висеть ему на самом высоком дубу. Я об него, — говорит, — и шашки поганить не буду!» А про меня спросил и — ощерился. «А энтого, — говорит, — хромого черти куда понесли? Сидел бы дома, — говорит, — на печке. Ну, а уж ежли поймаю, то до смерти убивать не буду, но плетюганов ввалю, покеда дух из него пойдет!» Вот какой распрочерт оказался! Ходит по хутору пущает огонь в купецкие и в поповские дома и говорит: «За Ивана Алексеевича да за Штокмана всю Вёшенскую сожгу!» Это тебе голос?
Григорий еще с полчаса проговорил с отцом, потом пошел к коню. В разговоре старик больше и словом не намекнул насчет Аксиньи, но Григорий и без этого был угнетен. «Все прослыхали, должно, раз уж батя знает. Кто же мог переказать? Кто, окромя Прохора, видал нас вместе? Неужли и Степан знает?» Он даже зубами скрипнул от стыда, от злости на самого себя…
Коротко потолковал с казаками. Аникушка все шутил и просил прислать на сотню несколько ведер самогона.
— Нам и патронов не надо, лишь бы водочка была! — говорил, он хохоча и подмигивая, выразительно щелкая ногтем по грязному вороту рубахи.
Христоню и всех остальных хуторян Григорий угостил припасенным табаком; и уже перед тем, как ехать, увидел Степана Астахова. Степан подошел, не спеша поздоровался, но руки не подал..
Григорий видел его впервые со дня восстания, всматривался пытливо и тревожно: «Знает ли?» Но красивое сухое лицо Степана было спокойно, даже весело, и Григорий облегченно вздохнул: «Нет, не знает!»
Конец цитаты.
(ТД: 6, LXIII, 413–417).

Далее Григорий переправляется на «свое (!) займище», чтобы ночью тайно посетить оставшуюся на той стороне семью – мать, Наталью, детей (ибо сказано, что красные, окопавшись на горе, ночью в хутор не заходят):
«Григорий въехал на свое займище перед вечером.
Все здесь было ему знакомо, каждое деревцо порождало воспоминания… Дорога шла по Девичьей поляне, на которой казаки ежегодно на Петров день пили водку, после того как «растрясали» (делили) луг. Мысом вдается в займище Алешкин перелесок.
414
Давным-давно в этом, тогда еще безыменном, перелеске волки зарезали корову, принадлежавшую какому-то Алексею – жителю хутора Татарского. Умер Алексей, стерлась память о нем, как стирается надпись на могильном камне, даже фамилия его забыта соседями и сородичами, а перелесок, названный его именем, живет, тянет к небу темнозеленые кроны дубов и караичей. Их вырубают татарцы на поделку необходимых в хозяйственном обиходе предметов, но от коренастых пней весною выметываются живучие молодые побеги, год-два неприметного роста, и снова Алешкин перелесок летом – в малахитовой зелени распростертых ветвей, осенью – как в золотой кольчуге, в червонном зареве зажженных утренниками резных дубовых листьев.
Летом в Алешкином перелеске колючий ежевичник густо оплетает влажную землю, на вершинах старых караичей вьют гнезда нарядно оперенные сизоворонки и сороки; осенью, когда бодряще и горько пахнет желудями и дубовым листом-падалицей, в перелеске коротко гостят пролетные вальдшнепы, а зимою лишь круглый печатный след лисы протянется жемчужной нитью по раскинутой белой кошме снега. Григорий не раз в юношестве ходил ставить в Алешкин перелесок капканы на лис…
Он ехал под прохладной сенью ветвей, по старым заросшим колесникам прошлогодней дороги. Миновал Девичью поляну, выбрался к Черному яру, и воспоминания хмелем ударили в голову. Около трех тополей мальчишкой когда-то гонялся по музгочке за выводком еще нелетных диких утят, в Круглом озере с зари до вечера ловил линей… А неподалеку – шатристое деревцо калины. Оно стоит на отшибе, одинокое и старое. Его видно с мелеховского база, и каждую осень Григорий, выходя на крыльцо своего куреня, любовался на калиновый куст, издали словно охваченный красным языкастым пламенем. Покойный Петро так любил пирожки с горьковатой и вяжущей калиной…
Григорий с тихой грустью озирал знакомые с детства места. Конь шел, лениво отгоняя хвостом густо кишевшую в воздухе мошкару, коричневых злых комаров.
415
Зеленый пырей и аржанец мягко клонились под ветром. Луг крылся зеленой рябью».
Полужирным выделен текст, свидетельствующий о том, что описан правобережный путь от Хованского перелаза (недалеко от луга в Красном яру, где в 1912 г. была мелеховская деляна) до задних ворот скотиньего база. Это дорожка от брода, через Алешкин перелесок, Девичью поляну, мимо Черного яра.
Ну а окопы хуторской сотни – на левом берегу.









В строку про «Зипунных рыцарей» малоизвестное стихотворение ФК:
О чем шумите вы, казачие знамена?
О чем поется в песнях прежних лучших дней?
О ратных подвигах воинственного Дона,
Про славу витязей донских богатырей.
Былые подвиги… Походы… И победы…
Смирялись гордые и сильные враги.
И, помня прадедов старинные заветы,
На подвиг ратный шли донские казаки.
Донские рыцари! Сыны родного Дона!
Ужель теперь, в годину тяжких бед,
Постыдно дрогнем мы, и рухнет оборона,
И не исполним мы священный свой завет?!
Нет, не бывать тому! Вы, вольные станицы,
Вы, хутора и села – бей в набат!
Мы грудью отстоим казачие станицы.
Скорей к оружию! Вперед и стар и млад!
Как кротко смотрит небо голубое,
Вы слышите протяжный чей-то стон
И в шелесте травы и рокоте прибоя?
То стонет наш отец, седой родимый Дон.
Вперед за Тихий Дон, за Родину святую,
Нам сердце воскресит забытые слова
Вперед, станичники, за волю золотую,
За старые исконные права.
Шумят казачие священные знамена,
И сила грозная на страх врагам растет.
Донские рыцари! Сыны родного Дона!
Великий час настал: за Тихий Дон вперед!
Да, это напечатано в «Донской волне» в 1919,
Андрей, присутствие 12-го полка на творческом юбилее Федора Крюкова, на мой взгляд можно объяснить не только знакомством с последним командиром полка Леонидом Чирковым, но и в большей степени с Василием Максимовичем Калединым. Василий Максимович — земляк Крюкова, старший брат Алексея Максимовича, родился в хуторе Каледин, Усть-Хоперской станицы, Усть-Медведецкого округа. Руководил 12-м казачьим полком с 1911 по 1915 год.
Есть прямое упоминание о Алексее Максимовиче Каледине в ТД:
«От корчмы до деревни Горовищук гусеницами ползли пехотные части, обозы,
батареи, лазареты. Чувствовалось смертное дыхание близких боев.
У деревни Берестечко четвертую сотню обогнал командир полка Каледин. С
ним рядом ехал войсковой старшина. Григорий, провожая глазами статную
фигуру полковника, слышал, как войсковой старшина, волнуясь, говорил ему:
— На трехверстке, Василий Максимович, не обозначена эта деревушка. Мы
можем попасть в неловкое положение.
Ответа полковника Григорий не слышал. Догоняя их, проскакал адъютант.
Конь его улегал на левую заднюю. Григорий машинально определил добротность адъютантского коня.» (ТД, 3, V)
Нет, это другой 12-й казачий полк, не полк ИРА, а полк самообороны, сформированный уже в 1918-м.